Хорст Шмидт
Смерть приходила в понедельник.
Автобиография человека,
ставшего жертвой преследований
за отказ служить в нацистской армии
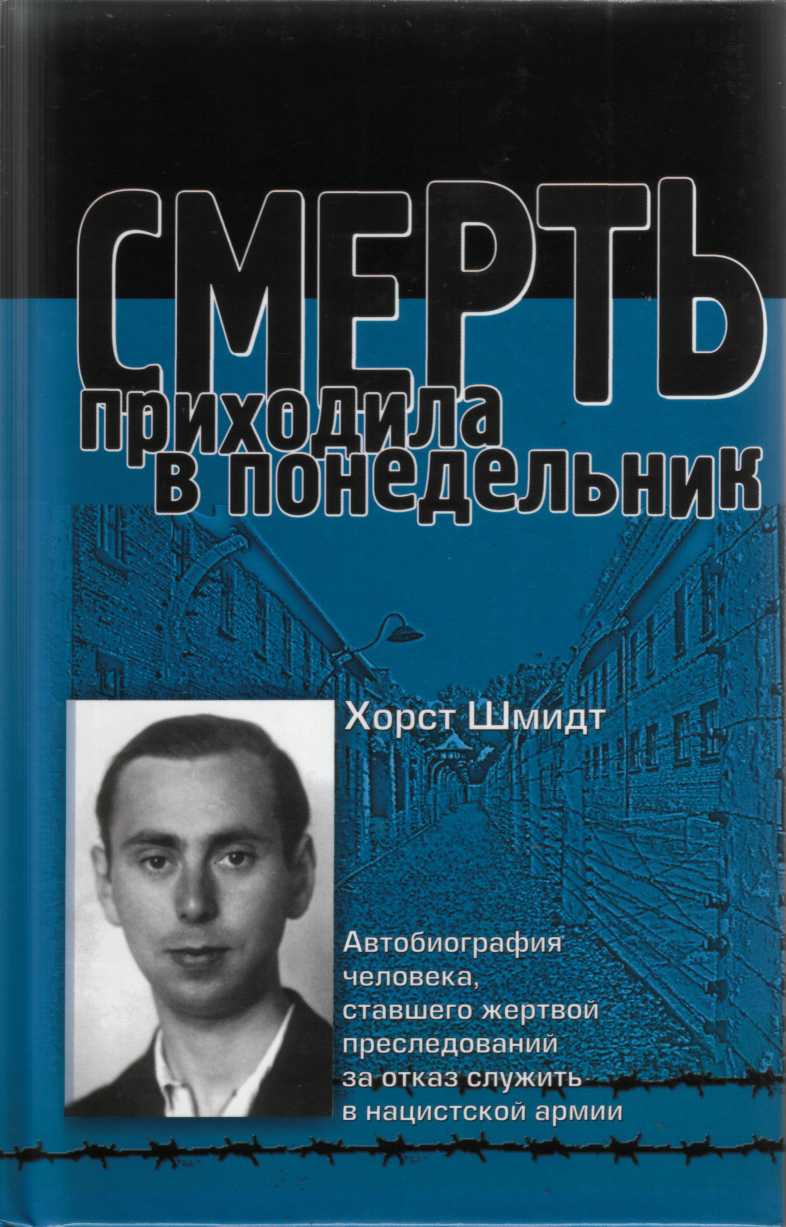
Horst
Schmidt
DEATH
ALWAYS
Came
on Mondays
Persecuted
for refusing to serve
in the Nazi army
An Autobiography
Edited
by Hans Hesse
Gramma
books
Copenhagen
Хорст Шмидт
СМЕРТЬ
приходила
в понедельник
Автобиография человека, ставшего
жертвой преследований за отказ
служить в нацистской армии
Под редакцией Ганса Гессе
Особая книга
Москва • 2009
УДК 279-12
ББК 86.376 Ш73
Шмидт X.
Ш73 Смерть приходила в понедельник.
Автобиография человека, ставшего жертвой преследований за отказ служить в
нацистской армии: пер. с англ. / Хорст Шмидт — М.:
Особая книга, 2009 — 208 с: ил.
Автобиография Хорста Шмидта —
это исповедь человека, отказавшегося от военной службы в нацистской Германии.
Будучи глубоко верующим христианином, он не захотел нарушить ветхозаветную
заповедь «Не убивай» и ушел в подполье. Его, как человека вне закона,
преследовало гестапо, и только чудом ему удавалось долгое время сбивать их со
следа. Он путешествовал по всей стране, развозя запрещенную литературу
Международного Общества Исследователей Библии. В Данциге он познакомился со
своей будущей женой, Эрминой. Их обоих арестовали за принадлежность к
Свидетелям Иеговы. Она была отправлена в концентрационный лагерь, где носила
отличительный знак — лиловый треугольник, а его приговорил к смертной казни
Народный суд.
Кроме автобиографии, в книгу
включена работа Германа Гессе о преследованиях
Свидетелей Иеговы в нацистской Германии.
Для широкого круга читателей.
Светлой памяти моих
родителей
Эмми и Рихарда
Цеден
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие ...................................................................................... 9
I. Данциг. Арест ................................................................................. 17
II. Берлин. Тюрьма на Александерплац ............................................ 24
III. Берлин. Тюрьма в Моабите ......................................................... 34
IV. Суд в Данциге .............................................................................. 48
V. Берлин. Снова Моабит .................................................................. 54
VI. Берлин. Тюрьма Тегель ............................................................... 77
VII. Внешняя команда ....................................................................... 94
VIII. Перед Народным судом ............................................................ 100
IX. Бранденбург. Тюрьма Гёрден: камера
смертников ..................... 122
X. Моя вторая жизнь ......................................................................... 134
Эпилог ................................................................................................ 145
8 Смерть
приходила в понедельник
Очерк
преследований Свидетелей Иеговы при нацизме. Ганс Гессе
149
Вместо вступления ............................................................................. 152
Запрет ................................................................................................. 154
Формы
сопротивления, использовавшиеся Свидетелями Иеговы ... 165
Отказ Свидетелей
Иеговы от несения службы в нацистской армии 173
Совесть
— «Острая эпидемия» против «Всеобщей спячки». Некоторые обстоятельства
появления статьи 4 III в Конституции
Федеративной Республики Германия ............................................ 180
Иллюстрации ...................................................................................... 189
Список литературы ............................................................................ 197
Интернет-сайты с
комментариями .................................................... 201
Предисловие
«Мы — последние.
Задавайте
вопросы!»1
Имре Кертеш
В марте 1997-го меня
пригласили выступить на открытии выставки в Бад-Герцберге, городе,
расположенном в горах Гарца. Тему моего выступления задал находившийся
неподалеку от Геттингена женский концлагерь Моринген. Поскольку значительную
часть заключенных этого лагеря составляли Свидетели Иеговы, а выставка
рассказывала об участи Свидетелей во времена нацизма, мое выступление было в
основном посвящено преследованию нацистами Свидетельниц Иеговы.
Именно там я и познакомился с
Хорстом Шмидтом. Организаторы выставки пригласили Хорста и его жену Эрмину
рассказать о том, что они пережили. Как их, Свидетелей Иеговы, преследовали в
пору нацизма. Эрмина Шмидт была включена в лагерь смерти Штутгоф близ Данцига,
а Хорста Шмидта, отказавшегося служить в
. . . . . . . . . .
1 Слова,
произнесенные Нобелевским лауреатом в Берлине 9 октября 2002-го года, когда он
получал премию Ганса Шаля. Цитируется
по статье Вольфа Шеллера «Erinnerung an das Überleben» («Память выживших»),
напечатанной в «Kölner Stadt-Anzeige» 11 октября 2002-
го года.
10 Смерть
приходила в понедельник
немецкой армии, Народный суд, в котором
председательствовал судья Фрейслер, приговорил к смерти — как и его мать, Эмми
Цеден, казненную в берлинской тюрьме «Плётцензее». Место ее казни ныне стало
мемориалом, а ведущая к нему улица носит имя Эмми Цеден. Мне хорошо знакомо
место казней в тюрьме «Плётцензее», и я слышал имя Эмми Цеден. Но я не имел
понятия ни о том, что она принадлежала к Свидетелям Иеговы, ни о том, что ее
сын, Хорст Шмидт, выжил, ни о том, сколь большое число людей, по нравственным
соображениям отказывавшихся при национал-социализме
служить в армии, принадлежали к Свидетелям Иеговы. Обо всем этом я узнал только
в тот вечер.
Когда эта пара начала
рассказывать свою историю, университетский актовый зал, в который набилось
больше 500 человек, погрузился в полную напряженного внимания тишину. Самое
глубокое впечатление произвел на нас спокойный, задумчивый тон, в котором Шмидт
рассказывал об участи, постигшей его в пору нацизма.
По мере того как он приближался к кульминации своего рассказа — о камере
смертников в тюрьме города Гёрден (земля Бранденбург) и о своем невероятном
спасении, — становилось понятно, что многое в его рассказе остается
недоговоренным. Важные детали он опускал, других касался лишь мимоходом, почти
не вдаваясь в объяснения. Когда же Шмидт не находил нужного слова, его жесты и
выражение лица все в большей мере выдавали чувства, пробужденные
воспоминаниями, страдания, которые они вызывали в нем, даже сейчас, когда он
делился ими с нами, слушателями. Он не скрывал того, что бо-
Предисловие 11
рется со слезами, что воспоминания эти и
по сей день остаются для него мучительными.
В тот вечер Хорст рассказал
нам о том, как он и его родители стали Свидетелями Иеговы; как он ушел в
подполье и жил нелегально, разыскиваемый гестапо, в квартире еврейки,
расположенной этажом выше квартиры его родителей, появляться в которой он
больше не отваживался; как решил, что не будет служить
в Вермахте, полностью сознавая, что если его найдут и схватят, это будет грозить
смертным приговором. Он описал нам свою деятельность в качестве курьера,
развозившего по всему Рейху нелегальную литературу, посвященную его вере,
находившейся под запретом; рассказал, как в ходе этой работы познакомился в Данциге
со своей будущей женой Эрминой; рассказал о «безумии», которым была его любовь
«во времена, подобные тем»; о том, как его мать, Эмми Цеден, решила спрятать в
стоявшем посреди Берлина садовом сарайчике нескольких единоверцев, которые по
нравственным соображениям отказались служить в армии; как во время процесса в
Народном трибунале он узнал, что ее обезглавили; как с того момента все
утратило для него какое-либо значение — и как он время от времени спрашивал себя,
был ли он прав в своем решении отказаться от военной службы и тем поставить на
карту свою жизнь. Ведь он не хотел умирать. И, даже выжив, не испытал полного
облегчения, поскольку знал, что должен был умереть.
В тот же вечер я отправился
домой, считая само собой разумеющимся, что воспоминания Хорста Шмидта вскоре
появятся в печати. Как историк я питал к этому профессиональный ин-
12 Смерть
приходила в понедельник
терес, а как человек, также некогда
отказавшийся служить в армии, — интерес личный. В последующие годы мои пути
пересекались с супругами Шмидт на разных мероприятиях, проводившихся и в
Германии, и за ее пределами. Всякий раз рассказы Хорста Шмидта производили на
меня очень сильное впечатление, и, даже зная основные моменты его истории, я
продолжал находить все новые нюансы, дополнявшие общую картину. После одного из
таких мероприятий я спросил Хорста Шмидта, когда мы можем надеяться увидеть его
воспоминания напечатанными, и — к большому моему удивлению — в глазах его
появилось крайне скептическое выражение.
В конце 2000-го года,
завтракая вместе в бернском отеле, мы вернулись к этой теме. Хорст Шмидт сказал
мне, что подумывал о том, чтобы записать свои воспоминания о временах нацизма,
но с сожалением обнаружил, что многое просто-напросто стерлось из памяти. Это
одновременно удивило и раздосадовало его и едва не довело до отчаяния. Как он
ни напрягал память, воспоминания ускользали, что причиняло ему огромную боль.
Больше всего озадачивал Шмидта вопрос, почему хуже всего сохранилось в памяти
время, которое он провел в камере смертников и во многих других тюрьмах.
Мы поговорили о том, что,
пользуясь цитатой, можно назвать «страхом жертвы перед забвением»2,
о возможностях и попытках, подходах и форме, структуре и целях. Из того
разговора
. . . . . . . . . .
2 «Кертеш также был охвачен страхом жертвы перед забвением, едва ли не манией, которую разделял с ним и узник Бухенвальда Йорге Семпрун». Цитируется по указанному выше источнику.
Предисловие 13
и сформировался текст данной книги. Это
результат самоанализа и самоочищения, полученный в процессе болезненного
воскрешения воспоминаний и основанный на предельной искренности.
Пока продолжался этот
процесс, мы с Хорстом договорились, что я добавлю к его автобиографии некоторые
сведения общего характера, касающиеся, возможно, менее известных сторон
преследования Свидетелей Иеговы при нацизме. Прежде всего
они включают истолкование национал-социалистами поведения людей, по нравственным
соображениям отказывавшихся служить в армии, а также причины, по которым в
Конституции Федеративной Республики Германия появилась статья 4 III с оговоркой, что «никто не может быть принужден носить на
военной службе оружие против его воли».
Да, действительно, те
Свидетели Иеговы, которые отказывались во времена национал-социализма
нести военную службу, не были — даже в собственном их понимании —
провозвестниками движения сторонников мира. С другой стороны,
если продолжать рассматривать их позицию как просто проявление политического
нейтралитета, мы упустим, что они были христианами, которые в то время, когда
большинство людей погружалось в спячку, отказывались (как отказываются и сегодня)
поднимать оружие против своих соотечественников и представителей других
народов, что позиция, занятая ими при нацизме, наложила глубокий отпечаток на
всю историю Федеративной Республики Германия.
Тема «отказ от армейской
службы в период нацизма по нравственным соображениям» соблазня-
14 Смерть
приходила в понедельник
ет проводить параллели с условиями и
событиями сегодняшнего дня. Однако каждое новое поколение должно самостоятельно
отыскивать для себя ответы на вопросы своего времени. Нашим усилиям найти их и
устоять против возобновившихся призывов к оппортунизму могут содействовать
такие биографии, как биография Хорста Шмидта, и вопросы, которые мы должны
задавать очевидцам тех давних времен.
Доктор Ганс Гессе
Хюрт, март 2003
15

Хорст Шмидт, 1945 (из личного
архива)
16
17
I
Данциг. Арест
Поезд остановился у платформы
главного вокзала Данцига. Прибыл он, как обычно в те дни, с опозданием. Дорога
из Берлина через Штеттин, Штольп и Готенхафен была долгой. Почти четыреста
миль. Четыреста миль тревоги и страха, перебиваемого неотвязным вопросом:
удастся ли проскочить и на этот раз? Удалось, — военная полиция меня не
тронула. Собственно говоря, полицейские в поезде, как ни странно, даже не
объявились. Самым опасным пунктом на этом пути неизменно был Готенхафен
(Гдинген). Здесь поезд нередко досматривался военным патрулем. Я знал об этом и
потому всегда открывал окно, выглядывал наружу и, увидев, как патрульные влезают в первый вагон, торопли-
18 Смерть
приходила в понедельник
во уходил в самый
последний, надеясь, что на проверку всего состава времени им не хватит.
Последний участок пути до Данцига был коротким. Иногда же я просто сходил с
поезда и дожидался следующего, чтобы продолжить поездку. Труднее всего было
решить, что именно сделать, — первое или второе. Тот факт, что столь долгое
время все у меня шло хорошо, я могу объяснить лишь тем, что меня защищала
высшая сила.
Ну что ж, вот я и здесь, на
платформе главного вокзала Данцига. Остался только один опасный момент — билетный
контроль. Пройдя его, я, наконец, смог вздохнуть спокойно, легко затерявшись в
заполняющей улицы — их в этом городе называют Gassen, «аллеи» — толпе. Автомобильное движение здесь всегда было плотным,
тротуары заполнены толпами пешеходов, так что я с моим скромным багажом
никакого подозрения не вызывал. И напряжение, владевшее мной, стало понемногу
спадать.
Меня начали одолевать
предвкушения нашей новой встречи. Сколько уже времени мы с ней не виделись?
Четыре недели, может быть, пять? И как давно мы знали друг друга? Что-то около
восьми месяцев. Да, восемь месяцев. А между нашими встречами зияли недельные
паузы, да и длились они обычно всего три-четыре дня — от силы неделю, если все
шло хорошо. В данцигском доме ее родителей я обрел настоящее убежище.
Данциг.
Арест 19
Да, мы узнали друг друга и
полюбили. Любовь? Но допустима ли вообще любовь во время войны, во время
бедствий, когда смерть рыскает вокруг подобно рыкающему льву? Уже четыре месяца
я находился на нелегальном положении. У меня не было ни документов, ни
продуктовой карточки. Я жил тем, чем делились со мной другие, если делились
вообще, и был благодарен за то, что получал. Я находился в розыске. И знал, что
на меня ведется охота. Охоту вело гестапо, и я чувствовал, что оно буквально
наступает мне на пятки. Какая уж тут любовь? Не легкомыслие ли это? Как может
человек, попавший в такие обстоятельства, связать себя с другим человеком? Не
следует ли счесть это безответственностью? Но, с другой стороны, о какой
ответственности, о каком смысле можно говорить в такие времена? Война была
бессмысленной, убийства — бессмысленными, а много ли
смысла присутствовало в том, что людей изгоняли из собственных домов и терзали
в концлагерях? Здравый смысл тоже пал жертвой войны.
Но мы были молоды. И она была
прекрасна, полна жизни и очарования. Как же я мог не влюбиться? Я не должен был и мечтать об этом, да влюбился. Сумасшествие, безумие в
чистом виде, ибо что я собой представлял, кем был?
Человеком, на которого объявили охоту, человеком, поставленным вне закона,
изголодавшимся по покою и безопасности и так сильно жаждавшим хотя бы мгновения
любви. Но какое будущее могла иметь
20 Смерть
приходила в понедельник
эта любовь? Не была ли она попросту
безнадежной?
И, тем не менее, мы не могли
избавиться от мыслей друг о друге. Существовали своего рода узы, которые
связывали нас. Прежде всего, у нас была одна вера. Мы вместе боролись за эту
веру и намеревались держаться ее, даже если все обратится против нас. А, кроме
того, мы оба трудились на благо нашей веры. Заразительная энергия этой девушки
привела в движение и мой энтузиазм. На сей раз я, как и прежде, привез с собой
из Берлина несколько номеров нашего журнала «Сторожевая Башня», которые
предстояло перенести на матрицы и отпечатать на мимеографе. Правда, шум, создаваемый
этой машиной, делал подобное занятие опасным.
Помнится, я провел в Данциге
два дня. Было время Великого поста, 13 июня 1943-го года, когда вдруг зазвонил,
громко и неистово, дверной звонок, потом кто-то начал колотить в дверь, словно
желая проломить ее и ворваться в дом. Не помню, кто им открыл, однако незваные
гости влетели к нам, словно несомые бурей, оторвали нас друг от друга и
завопили: «Попался! Наконец-то! Долго же ты нас дурачил!». На меня градом
посыпались угрозы и ругательства. Потом они надели на меня наручники и дали
выход своей ярости, пиная меня и нанося удары. Все
происходило в суматохе и полной неразберихе. Нас распихали
по разным машинам, ожидавшим возле дома, — моих будущих тестя и тещу, их дочь,
Данциг.
Арест 21
с которой мы так сдружились, и меня. Так
мы оказались в гестаповской тюрьме Данцига.
Я и по сей день гадаю, как
случилось, что нас арестовали? Иногда я думаю — возможно, кто-то донес на меня
берлинскому гестапо. Я не утверждаю, что меня предали. Любые разговоры о предательстве
опрометчивы, и я готов протестовать, едва услышав это слово. И каждый, кто
знаком с гестаповскими методами допроса, с пытками, которые применялись в ходе
этих допросов, согласится со мной. Вполне возможно, что меня заметили еще в
Берлине и следили за мной во время поездки. Или кто-то ждал меня в Данциге, на
вокзале, и потом проследил до дома. Но кто мог знать о том, где я окажусь?
Может быть, полицейские поджидали меня у дома, где мне должны были дать приют,
каким-то образом вызнав адрес? Может, просто прождали там многие дни, не ведая
ни дня, ни часа моего появления? Я никогда не назначал встреч на определенное
время. Все это так и останется загадкой, поскольку я никогда даже не пытался
провести какого-либо расследования по этому поводу.
Едва доставив в гестапо, нас
сразу же отделили друг от друга. Меня немедля повели на допрос. Комната, в
которую я попал, была совершенно голой. Два стула — и все. Ну и еще два стола,
но они в последовавшем допросе никакой роли не играли. «Вот и он, Князь мира! —
издевательски поприветствовали меня гестаповцы. — Ты долго водил нас за нос. Но
от нас пока никто не уходил». Разумеется, это было ложью, потому что во время
дальнейшего допроса я узнал, что в одном только Берли-
22 Смерть
приходила в понедельник
не они разыскивали 10 000 человек. Они не
предложили мне сесть. И сами тоже остались стоять. Один человек передо мной,
другой сзади. Так у них было задумано. Ответов на свои вопросы они и не ждали.
Не успев ничего сказать, я получил удар, который отбросил меня на того, кто
стоял сзади. Он тут же ударил меня снова, и я полетел вперед. Так это и
продолжалось — я превратился в боксерскую грушу, по которой они наносили удары.
Надолго меня не хватило, и я упал на пол. Я попытался подняться, и мне это даже
удалось, однако меня тут же вновь сбили с ног. В конечном счете
я так и остался на полу. Да и они устали и отступились. Покричали еще, грозя
мне, а после велели увести в камеру. Где-то по пути я, должно быть, встретил
Эрми, мою будущую жену. В тот момент я ее даже не заметил. Лишь годы спустя,
когда мы снова встретились, она сказала: «Ты выглядел так, что я едва узнала
тебя!». Оказавшись в камере-одиночке, я тут же потерял сознание.
Два дня спустя я снова ехал в
поезде, на сей раз с двумя офицерами, прибывшими из Берлина специально ради
меня. У нас было отдельное купе. Непонятная была ситуация. На протяжении всего
пути я испытывал странное чувство, будто попросту нет. Я не существовал, никто
не замечал меня, даже наручников — и тех на мне не было. Наверное, мы трое
решительно никому не бросались в глаза. Два офицера вели оживленный разговор,
но ко мне не обращались ни единым словом.
Данциг.
Арест 23
Они с большим удовольствием поглощали
прихваченные с собой завтраки. То, что я был голоден, их нисколько не
интересовало. Я не получил ни крошки. Вот так я и вернулся в Берлин. На
штеттинском вокзале меня передали с рук на руки тюремному офицеру, тот усадил
меня в тюремный транспорт — «Зеленую Минну»3, как всегда называли
это средство передвижения берлинцы, — и повез в печально известную тюрьму на
Александерплац.
. . . . . . . . . .
3 Зеленая Минна / Grün Minna — просторечное
обозначение полицейского автомобиля для перевозки арестованных в Берлине (см.
сайт http://susvet.info) (прим. ред.).
24
II
Берлин. Тюрьма
на Александерплац
Так я и оказался в камере
«Алекса», как называли тюрьму на Александерплац. Каждый, проведя четыре года в
подполье, успел бы, наверное, свыкнуться с мыслью, что рано или поздно будет
пойман. Но теперь передо мной была реальность, а реальность сильно отличается
от того, какой ты ее себе представляешь. Печально знаменитая «Алекс». Ее
использовали как изолятор временного содержания, и подолгу в ней обычно никто
не задерживался. А потому в этой тюрьме отсутствовали элементарные условия и
хоть какая-то гигиена.
Я сидел на табурете и ждал.
Время от времени по коридору проходил надзиратель, загляды-
Берлин.
Тюрьма на Александерплатц 25
вая в глазок. Ощущение, что за мной постоянно
наблюдают, сковывало. Иногда тишину нарушал лязг ключей. Открывалась дверь, заключенного
выводили на допрос. Я был один, но я прочел где-то, что одиночество — приемная
Бога. И потому изоляция давала мне время на раздумье. Одна мысль постоянно
вертелась в голове. Когда придут за мной? Когда меня потащат на допрос? И каким
он будет, этот допрос? Возможно, таким же, как тот, первый, в Данциге? Нет,
вряд ли, это ничего им не даст. Они же должны задавать вопросы. Да, но какие? Я
копировал и развозил номера запрещенного журнала, «Сторожевой Башни». А откуда
я их брал? Где ночевал, в каких домах? Вот этих-то вопросов я и опасался. Какие
имена братьев по вере мне известны? Смогу ли я устоять? Я
верил в Бога, знал и чтил имя Иеговы, хотел оставаться его свидетелем и
сознавал, что ничего лучшего, чем его наставление, не существует: «...возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию
твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя» (Евангелие
от Луки 10:27) и «Не убивай». Из-за этого-то я сюда и
попал. Я не могу быть и не буду солдатом, которому придется убивать. Я знал,
Бог на моей стороне. Но достаточно ли сильна моя вера? В те дни возможности
укрепления веры были весьма ограниченны. Каждый Bibelforscher4 — Исследователь Библии — знал лишь нескольких своих братьев по
вере и имел для чтения
. . . . . . . . . .
4 Bibelforscher — Исследователи Библии (нем.).
26 Смерть
приходила в понедельник
несколько разрозненных публикаций, — на
прогулку по духовному раю это походило мало. Конечно, у нас была Библия. Многое
из сказанного в ней постигалось с трудом, но, что касается «Не убивай», — тут
ошибиться было невозможно. И, стало быть, божественную поддержку я имел
наверняка. Я мог — и хотел — верить в Бога. И не имел права считать себя
покинутым, зная, что Правитель вселенной на моей стороне. Я имел возможность
обратиться к нему, приблизиться к нему в молитве. А его Слово — Библия — было
проверенной, надежной, вечной ценностью. Мог ли я отринуть вечные идеи,
всеобщие духовные ценности лишь потому, что, казалось, данный момент этого
требовал? Не мог. Находясь в подполье, я твердо и всецело верил в Бога, а
значит, буду верить и сейчас.
Заскрежетал ключ, дверь,
взвизгнув, отворилась. Погрузившись в размышления, я совершенно забыл о
времени. На пороге камеры стоял работавший на кухне заключенный. Он держал поднос
с двумя ломтиками намазанного маргарином хлеба и, о чудо, маленькой палочкой
сыра из Гарца, его еще называли «Золотой брусок». Мне уже доводилось слышать
разговоры о том, что раз в неделю узников «Алекса» потчуют кусочком гарцского
сыра. Значит, это правда! Появился еще один заключенный, наливший мне кофе —
или нечто кофеподобное. Затем надзиратель снова загремел ключом в замочной скважи-
Берлин.
Тюрьма на Александерплатц 27
не, и я остался наедине с собой. Ломтики
хлеба исчезли слишком быстро.
Дни шли, время тянулось
медленно. Голые стены с надписями, нацарапанными гвоздями или ногтями, стали
для меня книгой. О чем в ней говорилось? «Здесь был Карл, 10.21.41». Кто такой?
Кем был этот Карл? «Здесь был Фриц, 2.2.42». А кто такой Фриц? Что они натворили?
Были они уголовниками, политическими заключенными, может быть,
гомосексуалистами? Вообразить их Свидетелями Иеговы я не мог. Bibelforscher стен не
портят, полагал я. Или все же могли? Кто-то, вспомнивший строки из Гёте, написал: «Кто с хлебом слез
своих не ел, кто в жизни целыми ночами на ложе, плача, не сидел, тот
незнаком...»5. Его, должно быть, прервали — цитата осталась
незаконченной.
Я всматривался в окно, норовя
хоть мельком увидеть небо, проблеск свободы. Зарешеченное окно находилось выше
уровня глаз. Небо за ним синее или серое? Разглядеть было невозможно. Стекло,
похоже, никогда не мыли. Всякому, кто хотел взглянуть на тюремный двор,
приходилось забираться на табурет. Но это запрещалось и каралось очень строго,
да и смотреть там было, в сущности, не на что.
Единственное, чего здесь было
в достатке, так это времени. Но что делать со временем в тюремной камере в
компании самого себя человеку, лишенному всего? Я всегда был жаден
. . . . . . . . . .
5 Перевод Ф. И. Тютчева (прим. ред.).
28 Смерть
приходила в понедельник
до чтения, но здесь какое бы то ни было печатное слово отсутствовало. Я любил работать
руками, но здесь не было и работы. Это место предназначалось для усмирения
закоренелых преступников. Назначение его, я полагаю, состояло в том, чтобы
доводить заключенного до состояния, в котором он лишается способности логически
мыслить. Я, не доживший еще и до 23-х лет, без сомнений чувствовал, что именно
это со мной и может произойти.
Эрми. Как я познакомился с
нею? Я сразу почувствовал, что меня влечет к ней, хоть это и было недопустимо.
Однако любовь сильнее рассудка. Мы шли с ней по Данцигу, по улице Моттлау. Было
холодно, стояла ясная зимняя ночь. Яркие звезды мерцали в небе, но уличные
фонари не горели, как и полагалось во время войны. Свет их мог привлечь
вражеские бомбардировщики. Катера и лодки тихо прорезали воду, знаменитое
сооружение Крантора — хлебного рынка — высилось над нами темным силуэтом,
вырисовываясь на фоне неба. Мы были одни и были счастливы. Почти не прибегая к
словам, мы сказали друг другу все. Впрочем, нет, кое-что я все же сказал ей
вслух: «Если эти времена когда-нибудь закончатся и мы
останемся живы, я женюсь на тебе». Она посмотрела на меня и ничего не ответила.
Она принципиально не хотела полагаться ни на какие обещания. Мы пошли дальше.
Полицейский патруль миновал нас, не остановив. Нам не пришлось притворяться
молодыми влюбленными — мы были ими. И патруль пропустил нас. Любовь
Берлин.
Тюрьма на Александерплатц 29
во времена мрака. Любовь и страх. Что за
странная парочка.
Гебюде на берегу Данцигского
залива. Далеко простирающийся плоский широкий берег, который захлестывают волны
Балтийского моря. А за пляжем белые песчаные дюны с мельчайшим, какой только
можно вообразить, белым песком. И все это купалось в сверкающем солнечном
свете. Ни единой души на целые мили вокруг — только я и Эрмина! Было ли это
свободой, если она сопровождалась постоянным страхом? Любая свобода могла закончиться
сразу за этими дюнами. Или за лесом Лангфура, посреди которого жили дед и бабушка
Эрми. Мы с ней подолгу бродили по этому лесу. Мы были одни, и никто больше нам
не был нужен. И прогулки по берегу в Цоппоте, где мы стояли, вглядываясь
в дали Балтийского моря. Мечты. Осуществится ли когда-нибудь хотя бы
одна из них? Пройдет очень долгий срок, прежде чем это произойдет. А то время
не предназначалось ни для счастья, ни для любви. Это было время опасности,
неопределенности, лишений и смерти.
Ключ загремел вновь, дверь
камеры распахнулась. Стоявший на пороге надзиратель приказал: «Давай. Пора на допрос!».
Я знал, что меня будут допрашивать, но когда настал этот момент, в памяти
всплыли события допроса в Данциге, и меня стало подташнивать. Как все пройдет
на этот раз?
Их было двое, гестаповцев,
всегда по двое. Они встретили меня такими словами: «Не пытайся уклоняться от
наших вопросов. Не пытайся врать. Сам знаешь, мы не дураки.
Ты можешь
30 Смерть
приходила в понедельник
избавить себя от множества неприятностей.
Так вот, мы хотим знать, кто давал тебе "Сторожевую Башню?"». Я
молчал. Что я мог им ответить? Они начали кричать на меня, вернее рычать. Я
продолжал молчать. Потом на меня обрушился первый удар, за ним последовали
другие. Они начали зачитывать мне длинный список имен, спрашивая после каждого:
«Ты его знаешь?». К моему изумлению, оказалось, что им известно огромное число
братьев, со многими из которых я не был знаком лично. Впрочем, многие из них
уже находились в тюрьмах и концлагерях. Я, надеясь воспользоваться этим,
называл некоторых из упомянутых. Но, разумеется,
обмануть гестаповцев не удалось. «А, так ты врешь нам! От этих людей ты
получать журналы не мог!». Снова началось избиение. По счастью, не такое
безжалостное, как на первом допросе. Что я мог сделать? Называть какие-либо
имена я не хотел. И мне пришла в голову мысль. Я сказал, что ездил за журналами
в Швейцарию. Я не думал, конечно, что они поверят, просто надеялся получить
недолгую передышку и на короткое время избавить себя от побоев. И произошло
нечто необычное. Меня отвели в другую комнату и оставили в ней под присмотром
охранника. Похоже, гестаповцам потребовалось что-то обсудить наедине — больше я
их в тот день не видел. Через какое-то время охранник отвел меня обратно в
камеру.
Берлин.
Тюрьма на Александерплатц 31
Камера была убогая. Однако в тот миг я
радовался вновь оказаться здесь, радовался возможности побыть одному. Мне нужно
было снова прийти в чувства, собраться с мыслями, спросить себя: «Правильно ли
я действую?». Для возвращения в нормальное состояние человеку необходимо
некоторое время. Вернулся надзиратель, приведя с собой работавшего на кухне
заключенного, который принес еду. Я на это не рассчитывал — время раздачи пищи
уже прошло. Я протянул свою миску, и мне вернули ее наполненной супом. Суп был
картофельный — или претендовал на такое звание. По счастью, еда не значила для
меня много. Ее отсутствие не было горчайшим из выпавших на мою долю испытаний,
хотя я и похудел до 49 килограммов — это при моем-то не маленьком росте.
Но бывали испытания и похуже.
Например, все, что касалось личной гигиены, оказалось попросту ужасным. Однажды
я понял, что уже не один в моей камере. Я ощутил дикое отвращение, оттого что
по всему телу что-то ползало. Нестерпимый зуд охватил голову и все тело. Я
разделся. К несчастью, я носил вязаную нижнюю рубашку. На ней отчетливо
различались маленькие движущиеся пятнышки. Я предположил, что это вши. Так
состоялась моя первая встреча с этими насекомыми, и я решил, что должен с ними
разобраться. И приступил к охоте. Но даже после многочасовых поисков полностью
избавиться от ползучих тварей не удалось. Не-
32 Смерть
приходила в понедельник
которые предпочли остаться со мной. Ну что ж,
оказывается, и ко вшам можно притерпеться. По крайней
мере, мне пришлось.
Было уже поздно, день
подходил к концу. Внезапно снова загремели ключи, дверь открылась, и я увидел
тюремщика: «Шмидт, выходи! Пора на допрос!». Я вскочил с нар. Посреди ночи —
это дурной знак! Час поздний, рабочее время закончилось. Впрочем, ничего
нормального здесь ожидать не приходилось и вскоре я вновь
оказался перед той же неразлучной парой гестаповцев. В здании тюрьмы
стояла зловещая тишина. Однако двое времени попусту тратить не стали. Пересыпая
обычные слова ругательствами, они кричали: «Вшивый врун! Мы почти поверили
тебе. Мы собрались отвезти тебя на швейцарскую границу, чтобы ты показал нам,
где тебе передавали "Сторожевую Башню". Но мы все проверили и
выяснили, что ты опять соврал. Ты получал журналы где-то еще. Это ясно».
И они начали избивать меня, швыряя поочередно друг к другу, пока я, наконец, не рухнул
на стул. Все окружающее внушало мне страх и отвращение. Снаружи уже наступила
тьма. Я находился в голой конторской комнате со столами, стульями и полками,
уставленными бесконечными рядами папок. Окно было закрыто шторами — как и
полагалось по военному времени. Я запомнил свисавшие с потолка тусклые
конторские лампы зелеными абажурами. И тени двух гестаповцев, беспокойно
метавшиеся по стенам вверх
Берлин.
Тюрьма на Александерплатц 33
и вниз. Все казалось жутковатым и
призрачным. Впрочем, я почти ничего не замечал. Да, я слышал голоса, но смысл
произносимых слов воспринимал смутно. Я ощущал пинки и
удары, но будто сквозь туман. Все как-то отдалилось и утратило значение.
В конце концов
они сдались. Думаю, они просто не понимали, что еще можно со мной сделать. Быть
может, все, чего они от меня хотели, — это услышать жалкие «да» или «нет». Меня
вернули в камеру, и там я упал, совершенно обессиленный, на нары, желая лишь
одного — покоя. Охранник не сказал ни слова. Наверное, он не в первый раз видел
возвращавшегося с допроса человека и, думаю, мог даже испытывать ко мне чуточку
жалости. Было далеко за полночь.
После этого меня допрашивали
еще множество раз, но уже без такого рукоприкладства. Они орали, поливали меня
ругательствами, но больше не били. Да и происходили эти допросы в обычное
рабочее время. Их следствие, судя по всему, пошло в каком-то другом
направлении.
34
III
Берлин. Тюрьма
в Моабите
Посреди тюремного двора
стояла «Зеленая Минна». Меня вывели из камеры и
затолкали в крытый кузов. Там уже сидело несколько заключенных. Куда нас
повезут, никто не знал. Скорее всего, в другую пересыльную тюрьму, может быть,
ту, что находится в районе Моабит. Так оно и оказалось. Для меня на тот момент
важно было только одно — освободиться из лап гестапо. Отныне я находился под
юрисдикцией суда. Конечно, дисциплина и здесь была строгой, как всегда, но
законы, по крайней мере, соблюдались. Хотя бы не было произвола.
Меня передали надзирателю,
который отвел меня в комнату, где выдавали тюремную одежду. Именно в этом я
нуждался больше
Берлин.
Тюрьма в Моабите 35
всего, потому что со времени ареста я не
имел возможности сменить нижнее белье, рубашку или что-либо еще. Я стоял перед
заключенным, который выдавал одежду со склада. Внезапно тот завопил: «У этого
парня вши!». И все мгновенно переменилось. Чего в Моабите не допускали ни под
каким видом, так это вшей. У меня тут же отобрали всю одежду, а самого
отправили на дезинфекцию, на избавление от вшей. Больше я своей одежды не видел
до того дня, когда предстал перед Народным судом. Итак, меня препроводили в
душ. Какое же это было чудо! Слова не в состоянии передать наслаждение, которое
испытывало мое тело под струями теплой воды. Как я соскучился по возможности
просто принять душ! Вспоминая ту пору, я понимаю, что за все время заключения
побывал под душем только дважды.
Потом настал черед
парикмахера. Он обрил меня так основательно, что на всем теле не осталось ни
единого волоска. Это было унизительно, но необходимо. Избавление от вшей
показалось мне счастьем. И вот я в камере, одетый в тюремную одежду, лишившимся
всех волос, жаждущий узнать, как же я выгляжу. Однако зеркала здесь не было!
Так или иначе, жизнь вновь
пошла обычным порядком: утреннее умывание, завтрак, обед, ужин. Поскольку здесь
никакого затемнения на окнах не было, свет в камерах выключали с заходом солнца
— из-за боязни ночных авианалетов. И все же эта камера отличалась
36 Смерть
приходила в понедельник
от той, в которой я сидел прежде. Она была
чище. Каждое утро мне выдавали щетку, чтобы подмести пол. И никакие надписи не
украшали стен. Стало быть, читать стало совсем уж нечего...
Я родился в Любеке. Город отнюдь не значительный — в каком
бы то ни было смысле. Мое рождение здесь в 1920-м году никакого значения ему не
прибавило. И ныне я не считаю этот город родным. Родным для меня стал Берлин.
По сей день, если меня спрашивают, откуда я родом, я отвечаю: из Берлина.
Любек расположен на
прелестных склонах Вихенских гор. Правда, «горы» эти поднимаются ввысь не более
чем на 300 метров, так что, думаю, они, скорее, достойны
называться холмами. Зато склоны этих холмов украшены живописными лесами. К
северу от города лежит открытая, широкая, пересеченная узкой полосой канала
Миттельланд равнина, которая тянется до самого Северного моря. На обязательной
для всякого города рыночной площади стоят собор, ратуша и школа. Промышленность
в городе несерьезная — пивной завод да сигарная фабрика. Жители окрестных
деревень вручную крутили сигары — такое у них было домашнее производство.
Помимо этого все вращалось вокруг земледелия — неподалеку от города
располагались большие фермы и несколько крупных поместий. Теперь того дома, где
я родился, уже нет. Его снесли, а там, где он стоял, тянется автострада. Но и
это шоссе обходит город стороной, так что он стал не более оживленным, чем был
в мои дни.
Берлин.
Тюрьма в Моабите 37
Ко дню моего появления на
свет мой дед по матери, носивший фамилию Виндхорст, давно уже умер. Он оставил
четырех детей: Вильгельма, Мими, Эмми и мою мать, Фриду. Брата матери Вильгельма,
я никогда не видел, он погиб в одном из последних сражений Первой
мировой войны. Я вырос на руках бабушки. Почему мои родители не оставили меня
на своем попечении, я так никогда и не узнал. Возможно, это было как-то связано
с их работой или с тем, что в последовавшие за Первой
мировой голодные годы растить ребенка было проще в деревне, чем в таком большом
городе, как Берлин.
Когда умерла бабушка, мне
было около трех лет. Три сестры, в том числе и моя мать, посовещались о том,
кто из них возьмет к себе ребенка. По-видимому, мои родители все еще не могли
позволить себе этого, тем более что к тому времени в Берлине у меня появился
новорожденный брат. А ко всему прочему я, как потом рассказывали, плакал и
твердил: «Хочу жить в Берлине, у тети Эмми!». Мое желание сбылось. Сестра моей
матери, Эмми, взяла меня к себе в Берлин и стала для меня новой мамой. Вот так
я и превратился в берлинца. А районом, в котором я вырос, стал Шонеберг — там у Эмми была небольшая квартира на Колонненштрассе. И
никто никогда не напоминал мне больше о моих настоящих родителях.
Берлин был огромным. Этот
город приводил меня в восторг, и я намеревался его покорить. Моей приемной
матери приходилось не сладко. Ей нужно было работать, добывать деньги — много
ли времени могла она уделять мне? Впрочем, когда мы переехали на Роннештрассе,
в район
38 Смерть
приходила в понедельник
Берлина, который назывался Шарлоттенбург,
у меня появился и папа. Когда я вспоминаю об этом, мне кажется, что все
произошло как-то вдруг, но, разумеется, приемная мать готовила меня к
переменам. Так или иначе, я обзавелся отцом, и никаких проблем у меня с ним не
возникло. Думаю, я принял его мгновенно. Тем более, почти сразу после этого я
пошел в школу. Учиться в школе и не иметь, в отличие от всех прочих, отца, было
бы очень неловко. По крайней мере, в те времена. Тем более,
что мама не давала ни единого шанса просто даже дружбе с кем-либо, кто не
принимал бы всей душой ее «сына».
Возвращаясь к этому, я
уверенно могу сказать, что Рихард Цеден стал мне отцом — настоящим отцом. Я
никогда не имел повода чувствовать, что я не настоящий его сын. О том, что он
еврей, я узнал как-то мимоходом и не придал этому никакого значения. Я часто
спрашиваю себя — что бы со мной стало, не будь его рядом? Он был немецким
евреем и, скорее всего, именно таковым себя и считал. Родившийся в 1887-м в
Магдебурге, он еще молодым человеком перебрался в Берлин. Его родители открыли
ломбард неподалеку от знаменитой больницы «Шарите». Судя по тому, что он мне
рассказывал, дела у них шли очень хорошо. Клиентами его родителей были по
преимуществу студенты-медики из «Шарите» — молодые люди из обеспеченных семей.
В те времена они жили так: если чек от родителей запаздывал или если молодой
человек проводил в городе пару бурных ночей, он закладывал что-нибудь у
Цеденов. Ломбард ничем особенно не рисковал — люди почти всегда выкупали свои
заклады.
Берлин.
Тюрьма в Моабите 39
Особой привязанности к
родительскому дому мой отец не испытывал. Да и появлялся в нем редко. Он
оказался отвергнутым за то, что женился на христианке, не еврейке. Не думаю,
что его родители хотя бы раз пригласили мою мать в гости, а уж я у них точно ни
разу не был.
Да, так что стало бы со мной,
не будь его рядом? И много ли хлопот доставлял я ему? Ответов на эти вопросы я
не знаю. Я принял его, я его уважал и даже любил и никогда его не забуду. Наверное,
он по-настоящему любил мою мать, ведь женился на ней, зная, что у нее есть
ребенок, мальчик, пусть даже и не ею рожденный. Он сильно повлиял на мое
отношение к жизни. Думаю, это он научил меня свободе, — тому, чего во времена
нацизма уже не существовало. И по сей день уроки, которые он мне преподал,
заставляют меня противиться любому виду принуждения. Для меня всегда наивысшее
значение имела — и имеет — терпимость. И этому тоже научил меня мой отец. Собственно
говоря, большей частью моих взглядов на жизнь я обязан именно ему...
Жди, думай, размышляй. Тот,
кто сидит в одиночной камере, волей-неволей начинает строить предположения. А домыслы способны сбить с толку и смутить разум. О чем тут
думать, чего ожидать? Вот сидишь ты один-одинешенек, часами, днями, месяцами,
поговорить не с кем. Ты просто ждешь, ждешь и ждешь. Чего? Правосудия? Какое
правосудие может быть в неправовом государстве?
Правосудие без любви только ожесточает. А любви тебе, разумеется, ждать не от
кого. Тяж-
40 Смерть
приходила в понедельник
ких испытаний — да. И я начал размышлять о
моей вере. Я читал где-то, что вера без любви делает человека фанатиком. Но как
можно любить своих мучителей? Я не был к этому готов, по крайней мере, тогда.
Власть без любви творит насилие. Что ж, это я уже испытал на своей шкуре.
Постепенно ты утрачиваешь
ощущение времени, просто приспосабливаешься к свету и тьме. Сразу после ужина,
около шести, свет выключается. Завтрак, обед, ужин — вот все, за что тебе
остается цепляться. Некоторые заключенные, чтобы не потерять счет времени,
царапали на стенах черточки.
Эти жалкие тюремные камеры!
Семь разных камер поочередно становились моим «домом», и все выглядели
одинаково. Сколько я помню, они были три-четыре метра в длину и около двух в
ширину. К стене каждой крепилась откидная кровать с соломенным матрасом и
грубым одеялом в сине-белом пододеяльнике, который меняли раз в месяц. Какое-то
подобие подушки. В противоположном конце камеры — прикрепленный к стене столик
и стул либо табуретка. Полка с металлической миской и ложкой. Ножей и вилок нам
не полагалось, да и нужды в них не было никакой. В углу у двери — отвратительно
вонявшая параша. Разумеется, никакого унитаза.
Час за часом я прохаживался
от двери к окну и обратно. Наверное, такие же чувства владеют зверем, запертым
в клетку. Ты не можешь
Берлин.
Тюрьма в Моабите 41
просто сидеть сиднем
на жестком стуле, рано или поздно тебя охватывает потребность хоть немного
размять конечности. Если повезет, тебя три раза в неделю выведут в тюремный двор
на получасовую прогулку. Читать нечего. Когда в замке поворачивается ключ, ты
обязан вскочить на ноги, отпрыгнуть к стене под окно и отбарабанить:
«Заключенный Хорст Шмидт, арестован за противодействие военным усилиям нации,
уклонение от призыва и незаконную деятельность, связанную с Международным
Обществом Исследователей Библии». Судебный следователь постановил, что я должен
представляться именно таким образом, повторять всю эту чушь каждый раз, как
открывается дверь моей камеры. Если возникавший на пороге охранник уже знал
меня, он просто отмахивался, однако я никогда не мог позволить себе пренебречь обязанностью повторять эти слова.
Много времени утекло, прежде
чем я предстал перед судебным следователем, да никакого следствия, в общем-то,
и не велось. Меня лишь ознакомили с выдвинутыми против меня обвинениями. Я был
возвращен в камеру, чтобы, вероятно, иметь возможность подумать о них.
Уклонение от призыва в армию каралось смертью; нелегальная деятельность
приводила, как правило, к длительным срокам тюремного заключения; а
противодействие военным усилиям нации трактовалось чрезвычайно гибкой статьей
закона, ко-
42 Смерть
приходила в понедельник
торую можно было применить к чему угодно.
Я, собственно говоря, чего угодно и ожидал, и потому, вконец запутавшись,
тревожился только одним вопросом: «Когда же это произойдет?»...
Мы с приемными родителями в
очередной раз переехали. В Шпандау. Я этого не одобрил. Шпандау! Разве это
Берлин?! Пригород, не более того. Шпандаунцы — никакие не берлинцы. Они жаждут независимости.
Они и частью Берлина-то стали только в 1920-м году. И нам придется жить здесь.
Я вынужден был сменить школу, а ведь мне только-только удалось привыкнуть к старой. Просто отчаяние! Но, увы, права голоса я не имел.
Найти жилье в те дни было очень
трудно. Я однажды слышал разговор родителей на эту тему. Им предложили очень
хорошую квартиру. Но требовалось заплатить задаток в 500 рейхсмарок — большая
по тем временам сумма, больше, чем у нас было, да и сам переезд обошелся бы
недешево. В общем, мы переехали в Шпандау, на Брудерштрассе. Квартира в новом
квартале, на первом этаже, с печным отоплением. Потолки в ней были не такие
высокие, как в прежней, полы
страшно холодные. Я часто слышал, как мама говорила: «Это ненадолго».
Как бы там ни было, я покинул
и Шарлоттенбург, и Роннештрассе и очутился в новой школе. С одноклассниками я
поладил быстро, но что-то моим родителям в этой школе не нравилось. Что именно,
я не знал, но слышал разговоры о том, что «мальчика надо перевести в другое
место». Опять! В школе, о которой они подумывали, девочки и мальчики учились
вместе. Для меня это было но-
Берлин.
Тюрьма в Моабите 43
вым. Возник вопрос: не слишком ли эта
школа коммунистическая? А с другой стороны: не слишком ли нацистская моя
теперешняя школа? Все эти дебаты происходили без моего участия. Да и что бы я
мог сказать в моем-то возрасте? Я в подобных вещах не разбирался. В результате
меня все-таки перевели. И посадили рядом с девочкой. Никаких проблем у нас по
этому поводу не возникло — ни у нее со мной, ни у меня с ней. Она к этому уже
привыкла. А я вовсе не находил ее такой глупой и бестолковой, какой, по словам
мальчишек, является каждая девчонка. И вообще, мне здесь нравилось — особыми
требованиями по части дисциплины нас не донимали, отношение к ученикам было
дружелюбное, а преподавание велось так же, как в любой другой школе.
Я и сейчас помню тогдашние
школьные экскурсии — три или четыре дня мы проводили в
несу над рекой Шпрее. Для меня это было переживание
совершенно новое, я на такое и надеяться не смел.
Целый день кататься на лодке — как замечательно! Шпрее разделялась на множество
рукавов, за каждым ее поворотом открывались новые виды. В лодку запрыгивали
лягушки, девчонки визжали, что страшно веселило нас, мальчишек. Две ночи мы
проводили под открытым небом — разумеется, на благопристойном расстоянии от
девочек. Время летело, и путешествие заканчивалось, увы, слишком быстро.
До этого — а мне уже было лет
девять или десять — меня постоянно окружали, если так можно выразиться, высокие
стены. Вход охраняли родители, и ничто, способное потревожить меня или
повредить мне, за эти стены не допускалось. Ни
44 Смерть
приходила в понедельник
единого облачка в небе, вечное сияние
солнца. Но потом начали собираться тучи. Поначалу просто облачка. Как-то раз я
шел с ранцем за плечами из школы, предвкушая свободный вечер. У меня было,
конечно, домашнее задание, но не слишком сложное. Поэтому я собирался потратить
время на дела более важные и, наверное, мечтал о них на ходу.
И тут совершенно неожиданно
дорогу мне преградил какой-то мужчина. Решительно мне не знакомый. Он схватил
меня за руку и сказал: «Я твой отец. Теперь ты будешь жить со мной». Я так и
замер. Поначалу у меня вообще никакого отца не было, потом отец появился, и
вдруг их стало целых два! Так не бывает. Он потащил меня за собой, а я,
разумеется, заорал во все горло. Не знаю, как это случилось, — наверное, кто-то
известил маму о том, что происходит, — и она появилась. Взрослые обменялись
несколькими сердитыми фразами, после чего мама с обычной своей решительностью
подхватила меня и повела домой.
Однако на этом дело не
кончилось, потому что мужчина и вправду оказался моим папой. Моим отцом, о
существовании которого я до того времени ни малейшего понятия не имел. Для того
чтобы завоевать мое сердце, он избрал способ явно не самый лучший — схватил
меня на улице за шиворот и поволок за собой! И поскольку этот способ не
сработал, мои биологические родители решили вернуть ребенка через суд.
Судебные дела имеют
обыкновение тянуться и тянуться — и это дело также не составило исключения.
Нацисты в то время к власти еще не пришли, так что козыри, позволявшие легко
выи-
Берлин.
Тюрьма в Моабите 45
грать дело, у моих биологических родителей
отсутствовали. В конце концов, суд вынес решение. Я был оставлен с моими
родителями, то есть с теми, кто вырастил меня, подготовил к жизни и так далее.
Но, помимо этого, суд постановил, что, пока стороны не придут к окончательному
соглашению, мне надлежит время от времени посещать биологических родителей. Так
между нами начала появляться связь — впрочем, лишь временная. Нынешние отец и
мать не заставляли меня совершать эти визиты, просто напоминали о них время от времени
из чувства долга — и все. Что же касается меня самого, я никакого желания
бывать там не испытывал и отговаривался тем, что учеба в школе и домашние
задания не оставляют мне времени для подобных встреч. Это отчасти было правдой,
поскольку биологические родители мои жили довольно далеко от нас. Одна дорога к
ним занимала больше двух часов. Мы, как я уже говорил, жили в Шпандау, на
западе города, а они в Штралау на востоке. Для меня этот путь был очень
неблизким.
При первом посещении их дома
я узнал, что у меня, оказывается, есть три брата и сестра — естественно, все
младше меня. Мы не старались избегать друг друга, да, собственно, и причин для
этого не было. Они были со мной вполне приветливы, как им, вне всяких сомнений,
и велели. Но никакого взаимного тепла между нами не возникло. Так что
какие-либо побудительные причины навещать биологических родителей у меня отсутствовали.
Все в них представлялось мне странным. Атмосфера их дома подавляла, да и жили
они иначе, не так, как мне нравилось. Я к такой жизни привыкнуть не мог — или
не хотел.
46 Смерть
приходила в понедельник
Со временем все уладилось
само собой — более к моему удовольствию, чем к удовольствию моих биологических
родителей. Я навещал их все реже и реже, а там и вовсе перестал. Родители
больше не донимали меня напоминаниями, биологический отец тоже. Что до меня, я
и вовсе об этом не думал. Я учился в школе, выполнял домашние задания, играл с
соседскими детьми и ходил на прогулки с мамой и папой.
Отцу приходилось каждый день
ездить на работу подземкой до станции «Зоопарк». Он работал продавцом в
магазине мужской одежды. В элитном магазине. Владелец его был, как и мой отец,
евреем. В те дни люди работали и по субботам, и в четыре предшествовавших
Рождеству воскресенья. Магазин стоял прямо напротив Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche («Мемориальной церкви кайзера Вильгельма»)
на углу Тоенценштрассе. Рядом с этим относительно небольшим магазином
находилось прославленное «Романское кафе», излюбленное место многих художников,
которое часто посещали знаменитости того времени — писатели, поэты, критики — и
определенное число тех, кто только собирался стать знаменитостью. Отец часто
упоминал имена Эриха Кестнера, Маши Калеко, Альфреда Керра и другие, мной
позабытые. Нацисты ко многим из них относились с неодобрением. Впоследствии
одним было велено помалкивать, другие эмигрировали.
Семья моей приемной матери
принадлежала к евангелической церкви. Правда, я не припоминаю, чтобы мы с ней
ходили в церковь. И совершенно не могу представить, чтобы она делала это
Берлин.
Тюрьма в Моабите 47
в одиночку. Молиться я научился дома, и
молитва у меня была самая обычная: «Мал я и сердцем чист...». Но сердце мое
заполнял не столько Бог, сколько мать и отец. Разумеется, мы праздновали Рождество
и дарили друг другу подарки. Всем нам ужасно нравилась елка и блестки на ней, а
я настаивал еще и на цветных стеклянных шариках и получал их. Никто никогда не
говорил о Рождестве, как о празднике христианском. Напоминал об этом лишь
граммофон пластинкой с рождественскими гимнами. На Пасху мы по традиции выходили
из дома и разыскивали в ближних кустах и зарослях пасхальные яйца. Я занимался этим
очень рьяно, но, полагаю, без большого умения, потому что наша собака обычно
находила их раньше, чем я.
Был один случай, когда отец
спросил, не хочу ли я посетить праздник под названием Ханука. Хануку называют
еврейским Рождеством, хотя с Рождеством она ничего общего не имеет, если не считать
того, что отмечается тоже в декабре. Это праздник, посвященный памяти восстания
Маккавеев и очищению иудейского Храма в 165-м году до
н.э. Праздник очень торжественный — с горящими
семисвечниками, пением, из которого я, правда, ни слова не понял. Меня туда
отвела жившая по соседству еврейка-учительница. Родители остались дома.
Размышляя об этом сейчас, я
прихожу к заключению, что религия в нашей семье особо важной роли не играла.
Так почему же мои родители стали Исследователями Библии? Что заставило их присоединиться
к этой вере и с такой преданностью служить ей?
48
IV
Суд в Данциге
Надзиратель крикнул: «Шмидт!
Завтра встаешь рано. В шесть утра тебя увозят».
Снова дорога! И ни слова о
том — куда. Ни слова о том — почему. Впрочем, догадаться не трудно. Скорее
всего, меня повезут в Данциг. Но я не был уверен.
Так или иначе, наутро меня
вывели из камеры и выдали провизию на дорогу: хлеб с ломтиками колбасы! И мы
поехали — мы, поскольку в «Зеленой
Минне» сидели и другие заключенные, — на Силезский железнодорожный вокзал. Меня
это озадачило, потому что поезда на Данциг отправлялись не с Силезского
вокзала, а с Штеттинского. Куда же меня на
Суд
в Данциге 49
самом деле
повезут? Тюремный вагон был последним в составе. Назвать его удобным никто бы
не рискнул — вагон делился на маленькие, похожие на клетки, купе. В каждом
имелась деревянная скамья, на которой умещались два человека. Окна заменяла
узкая прорезь под потолком — приток воздуха она обеспечивала, но разглядеть
сквозь нее что-либо было невозможно. Меня поместили в такую клетушку с еще
одним заключенным примерно моих лет. Он походил на человека, от которого можно
было ожидать некоторой цивилизованности, но, к сожалению, его занимала лишь
одна-единственная тема. Всю дорогу он бормотал о том, как замечательно поест,
когда его выпустят на свободу.
Поезд доставил нас в
Лицманштадт (Лодзь). Что будет со мной здесь? Охрана вывела заключенных из
вагона, сковав по двое. В таком виде мы и прибыли в местную тюрьму. А на
следующее утро вернулись в тюремный вагон и путешествие
продолжилось. Мой друг-гурман куда-то исчез, его сменил новый попутчик.
И к вечеру мы добрались до Данцига, как я и предполагал.
На дорогу от Берлина до
Данцига у нас ушло два дня и ночь. И вот я снова стою посреди тюремного двора.
Выглядел я, надо полагать, ужасно — немытый, усталый, осунувшийся. К тому же обритый наголо в Моабите из-за вшей. Я стоял там, не имея
никакого понятия о том, что меня ожидает. И вдруг ко мне подкатилась и замерла
у моих ног луковица.
50 Смерть
приходила в понедельник
Я удивленно оглянулся, потом
быстро наклонился и поднял ее. У заключенного почти не бывает времени подумать,
он должен за долю секунды оценить ситуацию и быстро воспользоваться ею. А
случилось следующее — меня узнал брат по вере, поляк, и мгновенно пожертвовал
мне свое сокровище.
Луковица. Чем ценна луковица?
Это известно любой домашней хозяйке. Луковица делает блюдо более вкусным,
добавляет аромат, она полезна для здоровья. Но здесь, в тюрьме, ценность ее
возрастает бесконечно. Эта луковица сказала мне, что рядом находится один из
моих братьев, готовый помочь, человек, разделяющий мои убеждения. Ты не одинок!
И никогда одиноким не будешь! Наш Бог по-прежнему с нами и всегда отыщется
человек, готовый тебя поддержать. Вот что сообщила мне обыкновенная луковица!
Я спрятал ее, а несколько
позже разделил на кусочки и съел вместе с оставшимся хлебом. Ножей у нас,
разумеется, не было. По щекам моим катились слезы — конечно, не только из-за
лука.
В Данциг меня привезли
потому, что здесь должен был состояться суд над Эрми и другими. Меня же суд
намеревался заслушать как свидетеля. Какие вопросы мне задавали
и что я на них отвечал? Об этом у меня никаких воспоминаний не
сохранилось. Наверное, вопросов было не так уж и много. Впоследствии мои братья
рассказали мне, как потряс
Суд
в Данциге 51
их мой вид. Выглядел я и впрямь ужасающе:
ни единого волоса, впавшие от голода щеки, совершенно изнуренный, одетый в
обвисшую, никого не красящую тюремную одежду. В такого определенно с первого взгляда
не влюбишься, — а мне так хотелось показаться Эрми привлекательным.
Настоящим заключенным в
данцигской тюрьме меня не считали. Я оказался здесь лишь для того, чтобы дать
показания суду. Поэтому меня не держали в камере постоянно, а определили прислуживать
на кухне — работа, которую жаждал получить каждый заключенный. Покидать
тюремный блок ты права не имел, но в пределах его мог передвигаться свободно.
После того как разносился обед, тебя снова запирали в камере, то же самое
происходило и по окончании всей работы. И все-таки это давало ощущение свободы,
пусть и ограниченной. Да и надзиратели вели себя чуть дружелюбнее, они даже
уважили мою просьбу о переводе в другую камеру, получше.
Скоро я обзавелся тряпицей, которую использовал как маленькую скатерть, и
пустой маленькой жестянкой, куда посадил растения — и те даже зацвели. Охрана
поглядывала на мои цветы не без раздражения, однако молчала.
На кухне нас, заключенных,
работало трое. Мы не только раздавали еду. Предельная важность придавалась
чистоте. Все должно было сиять. Похоже, для тюремных надзирателей было вопросом
чести добиться того, чтобы
52 Смерть
приходила в понедельник
именно их блок оказался самым лучшим и
чистым из всех, чтобы в нем царил образцовый порядок. Однажды наш надзиратель
принес целую коробку коричневого крема для обуви, а в придачу еще несколько
зубных щеток. По-видимому, у него имелись хорошие связи, поскольку в те,
последние уже, годы войны раздобыть все это было почти невозможно. Он хотел,
чтобы мы смазали линолеумный пол блока обувным кремом, а затем отполировали
зубными щетками. Полировать полы, ползая на коленях по бесконечным коридорам,
было невероятно утомительно. Но, когда полы подсохли и засияли, то засияли и
мы, а с нами и наш надзиратель. И всякий раз, как он заступал на дежурство, мы
могли забыть о голоде.
Даже тюремная жизнь имеет
свои смешные стороны. Один из работавших на кухне заключенных был двоеженцем,
за что и оказался в тюрьме. У него были прекрасные черные волосы — впрочем, чем
дальше, тем сильнее они выцветали, становясь все более светлыми. И это сделало
его предметом множества издевок. Как-то раз он получил
передачу, в которой среди прочего обнаружился тюбик зубной пасты, новый,
неиспользованный. «Повезло тебе! — сказал я ему. — Зубная паста вещь полезная».
«Это не зубная паста, — ответил он. — Это табак». И действительно, в тюбике
оказался табак. Как ухитрился кто-то набить тюбик из-под зубной пасты табаком,
а потом придать упаковке первозданный вид,
Суд
в Данциге 53
я никакого представления не имею. В некоторых
отношениях «уголовники» были явно умнее нас, остальных заключенных.
Не помню, сколько времени я
проработал на тамошней кухне, но помню, что довольно долго. А после произошло неизбежное — меня отвезли обратно в Берлин. Правда, на этот
раз через Штеттин и без ночной остановки. Спали мы прямо в поезде. Ощущение не
из приятных.
54
V
Берлин. Снова
Моабит
Конечным пунктом был Берлин —
пересыльная тюрьма в Моабите. Время, проведенное в Данциге, стало для меня
отдыхом, а тамошняя тюрьма — санаторием. Теперь жизнь вернулась в прежнюю
колею. Утром — умывание. Завтрак, обед, ужин. Свет выключается. Энергию следует
экономить. Наверное, это было правильно, поскольку окна камер ничем не
закрывались, а воздушные налеты всегда представляли угрозу.
Затем произошло нечто
неожиданное. Мне дали работу, я бы сказал, «занятие». Обычно заключенным,
ожидавшим пересылки, никаких работ не давали, но что тогда можно было назвать
«обычным»? Шла «тотальная война»,
Берлин.
Снова Моабит 55
и любые руки, способные исполнять какую-либо
работу, были на счету.
Работа оказалась не тяжелой и
не сложной, но до ужаса однообразной! И все же наличие хоть какого-то дела было
приятным само по себе. Сидеть день за днем в камере и мерить шагами один и тот
же маршрут — от двери к окну и обратно — это не шутка. Начинает казаться, что
время остановилось, и мысли приобретают какой-то безумный характер. Многих это
приводило к попытке покончить с собой. Так что любое занятие было переменой в
лучшую сторону. Моя работа состояла вот в чем: в камеру приносили большую
упаковку листов целлофана и пачку оберток для них. Я должен был аккуратно
складывать эти листы, а когда сложенных набиралось шесть штук, помещать их в
обертку. Целлофановые листы предназначались для банок с желе. Благодаря этой
работе я научился измерять время. Определенное количество сделанных оберток
целлофана равнялось примерно часу. Работать я начинал после завтрака.
Проработав час, делал перерыв и совершал прогулку по камере. Вперед — назад,
вперед — назад. Конечно, особой точностью «часы» эти не отличались.
Временами нас выводили из
камер на 20- или 30-минутную прогулку на свежем воздухе по тюремному двору. Нам
было строго-настрого приказано не разговаривать друг с другом — понятно, что
этого приказа заключенные не выполняли. Они шепотом передавали друг
56 Смерть
приходила в понедельник
другу новости. За
дневной кормежкой следовало еще два часа возни с целлофаном. Что ж, по крайней
мере, дни от этого делались короче. Я гадал, имеют ли достойные берлинские
домохозяйки хотя бы отдаленное представление о том, кто складывает целлофан,
которым они накрывают свои банки с вареньем, джемом, желе? О том, что это
делают заключенные? Невинные, лишенные свободы люди. И если имеют, меняется ли
от этого вкус их варенья?
Выполнявшаяся
мной работа была вознаграждена: мне увеличили порцию еды и стали выдавать по
одной книге в неделю. Да, в тюрьме Моабита имелась библиотека. Конечно, о
Библии и думать было нечего. Но я стал просить книги о путешествиях и получал
их. Камера моя значительно расширилась. Я объездил весь земной шар. В таком
положении, как мое, очень важно было занять чем-то ум и душу. А душа моя всегда
была голоднее желудка. Итак, пока мои руки складывали листки целлофана, ум
путешествовал по миру. Я обогнул его вместе с Магелланом. Поднялся со Стенли к
верховьям реки Конго. В своем воображении я сопровождал самых разных
исследователей и путешественников в их волнующих странствиях...
Я
перешел в школу второй ступени. И, разумеется, очень гордился своей зеленой
бархатной шапочкой с полями и ленточкой, цвет которой менялся каждый год. У
родителей возникли, по-видимому, какие-то сложности с деньгами. Отец
Берлин.
Снова Моабит 57
все еще работал,
но разговоры о том, что рано или поздно он может потерять работу, я слышал чаще
и чаще. В Германии насчитывалось тогда семь миллионов безработных. Нам снова
пришлось сменить жилье, переехать на Францштрассе. Квартира оказалась меньше
прежней. Началось наше финансовое и социальное нисхождение.
В
итоге мы оказались в том же Шпандау, но в другом месте — квартирке из полутора
комнат. И получил полкомнаты. У меня была кушетка, на которой я спал, и шкафчик
для личных вещей. Родители очень скучали по прежней гостиной. Зато в их спальне
имелось эркерное окно и балкон, в дальнейшем оказавшиеся
для меня крайне полезными. Обеденный стол пришлось поставить в их спальне —
родители так и не смогли привыкнуть к этому. У эркерного окна было очень удобно
читать. И оно превратилось в мое любимое место.
Я
читал и читал, проглатывая все, в особенности книги по истории и географии —
моим любимым школьным предметам. Поглощал я и книги Карла Мэя про индейцев — по
одному томику за три дня. Могу только гадать, почему я его читал? Думаю, это
было просто детским увлечением. Отец внимательно следил за моим чтением. С
Карлом Мэем он еще смирился. Но как-то я одолжил книгу, которую отец совсем не
одобрил. Он безжалостно разодрал ее в клочья и бросил в мусорную корзину. Этот
урок я запомнил. И больше к дешевому чтиву не
прикасался. Я стал разборчивей.
На прикроватной тумбочке отца
лежали совсем другие книги. Я и сейчас помню их названия:
58 Смерть
приходила в понедельник
«Мысли и воспоминания» Отто фон Бисмарка;
«Ренессанс» Гобино6; «Леонардо да Винчи»
Мережковского; «Соки земли» Кнута Гамсуна7. Вокруг них я ходил на
цыпочках. Они принадлежали отцу, и я не мог просто подойти и взять их. И
все-таки они манили меня, и однажды я позволил себе подержать в руках том
Бисмарка. Но скоро положил его назад, как оказалось, навсегда. Для меня это
чтение было слишком тяжелым, я ничего не понимал. Потом я попробовал Гобино. Но
и эта книга меня не увлекла, а значит, и читать ее не стоило. Лишь много позже
я спросил себя, почему отец читал Гобино, теоретика расизма, превозносившего
арийскую расу и ратовавшего за национал-социализм.
Может быть, отец хотел получше разобраться в модных в
то время теориях. В общем, я и эту книгу вернул на тумбочку. Следующим стал
Мережковский. Он оказался намного лучше. Про легендарного Леонардо да Винчи,
великого художника, написавшего прославленную «Тайную вечерю» и другие шедевры,
я кое-что слышал. А из книги узнал, что он
. . . . . . . . . .
6 Жозеф Артюр де Гобино (1816-1882) французский писатель-романист, социолог и историк, автор расовой теории. Его принято считать основателем доктрины расизма, предложившим в своем «Опыте о неравенстве человеческих рас» тезис о влиянии расовых составов рассматриваемых обществ на особенности их культур, социальных строев, экономических моделей и в конечном итоге на их цивилизационную успешность (прим. ред.).
7 Кнут Гамсун (1859-1952) норвежский писатель. В 1920 году получил Нобелевскую премию за роман «Соки земли». Мечты Гамсуна о возрождении былого величия скандинавов привели к тому, что во время Второй Мировой войны при оккупации Норвегии он, увидев в речах Гитлера надежду на возвышение нордических рас, публично поддержал правительство коллаборациониста Квислинга. В дальнейшем он понял свою ошибку и пытался заступаться за тех, кого преследовали фашисты. После разгрома нацистской Германии писатель был отдан под суд и подвергся бойкоту со стороны общественности (прим. ред.).
Берлин.
Снова Моабит 59
был не просто блестящим живописцем, но и
мировым гением, великим архитектором — который даже сконструировал аэроплан,
хотя тот толком и не летал. Последним оказался Гамсун, лучший писатель из всех
четверых. Он сочинял захватывающие небылицы, чарующие истории о крестьянах
горной Норвегии.
Размышляя об этом сейчас, я
лишь дивлюсь тому, что мой отец, еврей, читал именно эти книги. Бисмарк был
прусским дворянином из Померании, канцлером Германии и большим поборником идеи
национального государства. Мережковский — русским,
приверженцем странных теорий, совершенно чуждых иудаизму. Гобино — о нем я уже
говорил. А тут еще Гамсун, «Соки земли». Конечно, эта книга принесла ему
Нобелевскую премию, но до чего же близка была она духу нацизма! Впоследствии
родная страна Гамсуна изгнала его на пятьдесят долгих лет именно за нацистские
взгляды. Я и по сей день не понимаю, что искал отец в тех книгах. Хотя,
возможно, все это было простым совпадением.
На стеллаже стояли еще две
книги. Рядом с четырьмя уже упомянутыми пухлыми томами они выглядели весьма
скромно. Одна из них называлась «Арфа Божия», другая совсем просто —
«Сотворение». Маленькие, непрезентабельные на вид книги с непритязательными
обложками. Изданные «Международным Обществом Исследователей Библии» — одна в
Магдебурге, другая в Нью-Йорке. Автор — судья Рутерфорд. Это имя также было мне
неизвестным. Но какой тираж! У «Арфы» 5 500 000 экземпляров, у «Сотворения» — 2
500 000. Тираж произвел на меня сильное впечатление. Наверное,
60 Смерть
приходила в понедельник
в этих книгах было что-то особенное. В
«Арфе Божией» встречались стихотворения. Что ж, стихи — чтение стоящее! Только
эти были какие-то не такие, странные. Кто их сочинил? Подпись автора отсутствовала.
Зато, в них упоминался некий «Иегова». А это кто такой? Кто такой Иисус, я
знал. В детстве я молился ему: «Я мал и сердцем чист, но в сердце моем живет
один Иисус», — хотя там, конечно, жили и мама с папой тоже. Правда, я уже вырос
и потому перестал молиться. И еще в этих книгах встречались странные слова:
«искупление», «воскрешение», «Завет Авраама».
Информация оказалась для меня
слишком плотной и трудной, так что «Арфа» скоро вернулась на полку. А вот
«Сотворение» было совсем иным, и такому юному существу, как я, представлялось
более чем интересным. В этой книге описывалось начало мира. Она не только
сообщала, что Бог создал землю, оказывается, он создал и людей, и все прочее.
Странно, в школе нас учили тому, что все возникло благодаря эволюции, постепенному
развитию. Именно так я и думал. Может быть, права эта книга, а Дарвин,
наоборот, неправ? На такой сложный вопрос я ответить не мог. И
в конце концов поставил и эту книгу рядом с ее соседкой. Странно думать, что
маленькие книжки, выглядевшие рядом с Бисмарком и Гобино такими невзрачными,
впоследствии приобрели для меня столь большое значение. Спросить о чем-либо
отца я не мог — мне же вообще не полагалось прикасаться к его книгам. Но позже
он вдруг сказал мне: «Тебе стоит прочесть эти книги. А после мы с тобой
поговорим». То есть он сам попросил меня прочесть их. Не подчиниться я не мог.
Именно это и приве-
Берлин.
Снова Моабит 61
ло к тому, что я стал Исследователем
Библии, а впоследствии, Свидетелем Иеговы.
Самое время вспомнить Отто
Мухса. Отто Мухс был одним из четырнадцати Исследователей Библии, живших в
Шпандау. Из всех 20 районов Берлина именно в Шпандау Исследователей Библии было
больше всего. Наше знакомство с Отто Мухсом началось случайно. Мои родители
вовсе не искали Исследователей Библии, религия не играла в их жизни
значительной роли. Но здоровая пища и здоровый образ жизни значили для моей
матери очень многое. Здоровый образ жизни подразумевал долгие прогулки вокруг
озера Глиенек, которые мне никакого удовольствия не доставляли. И все же самым
главным была здоровая пища, поэтому во время прогулок родители старались
отыскать огородников. И одного они нашли — Отто Мухса в овощном питомнике на
Зегефельдер-штрассе в Шпандау. Так мы с ним и познакомились.
Питомник у него был большой и
раскинулся столь широко, что Отто не мог использовать землю полностью. Большие
участки ее были покрыты травой. Насколько я помню, землю эту он арендовал. Все
дела он вел вместе с женой. Много позже, когда моим соверующим Герхарду Либольду
и Вернеру Гасснеру пришлось уйти в подполье и прятаться там, супруги протянули
руку помощи молодым людям. Дело свое Мухс не расширял. Просто довольствовался
тем, что оно ему давало.
Купить в его питомнике можно
было очень многое, и закупки начинались довольно рано. Маму больше всего
интересовали свежие фрукты и овощи — и чем более ранние, тем лучше. Первым
62 Смерть
приходила в понедельник
вызревал ревень. К числу моих любимых блюд
он не относился. Но мне говорили: «Это первые витамины года, так что давай
ешь». Мы сошлись на компромиссе: я пообещал, что буду
есть ревень, но с ванильным соусом. Потом появлялся шпинат. Тут я должен
признаться, что и поныне, если мне удается найти шпинат того сорта, который
выращивался Отто Мухсом, я ем его с удовольствием. У него росло все на свете.
Капуста обычная, капуста савойская, капуста цветная. Все! А последним овощем
сезона была зеленая листовая капуста. Вот уж от нее я отказывался
наотрез.
Отто Мухс мог предложить нам
и что-то более важное, если бы не множество препятствий. Он был Исследователем
Библии и видел свой первейший долг в распространении содержащихся в Библии
идей, которые представлялись ему истинными и важными. Но это становилось делом
все более трудным. К власти пришли национал-социалисты, и любые разговоры о
Царстве Бога стали очень опасными, поскольку Гитлер вознамерился создать
собственное тысячелетнее царство. Такова была первая проблема. Другая же заключалась вот в чем. Как объяснить еврею, что
Иисус Христос — сын Божий и наследник Царства Бога. По-видимому, ему это удалось.
С чего Отто начал, я не знаю, но он разговаривал с моими родителями часто и
подолгу. И, судя по результату, силой убеждения он обладал очень не малой. Ведь
по-настоящему убедить человека в чем-либо — дело весьма трудное.
Для меня все это не имело
значения — до тех пор, пока родители не начали разговаривать об этом со мной.
Тогда-то я и узнал, что Иегова — имя
Берлин.
Снова Моабит 63
Бога, что Иисус Христос — Его
сын, умерший ради всех людей. Они рассказали мне, что, согласно Библии,
нынешний мировой порядок подходит к концу, который ознаменуется битвой,
Армагеддоном, и затем установится Божий «новый мир». Мысли роем кружились в
моей голове. До этого со мной никто еще так не разговаривал. К тому же это было
очень далеким от «тысячелетнего царства» Адольфа Гитлера, не имело ничего
общего с созданием Германского Рейха. Напротив, царства «этого мира» ожидает
конец, а затем воцарятся мир и справедливость. Так где же
правда? И то, и другое одновременно быть ею не могло. Мои родители верили, что
человек должен слушаться Бога больше, чем людей, что Библия есть слово Божие.
Итак, мой отец положил передо мной на стол две книги — две книги, которые я уже просматривал и которые показались мне неинтересными
— «Арфу Божию» и «Сотворение», — и сказал: «Тебе стоит прочесть их. Обсудим
потом, что ты об этом думаешь».
И я приступил к чтению. Это
была по-настоящему тяжелая работа. Может ли все, сказанное в данных мне книгах,
быть правдой? У меня на этот счет имелись сомнения. Много сомнений. Потому и
продвигался я очень медленно. Впоследствии я прочитал в Библии, что жители
древнего города Верии обладали складом ума более возвышенным, чем другие,
поскольку прилежно проверяли все, что им говорилось, стараясь понять, истина ли
это. Я поступал так всю мою жизнь и всегда завидовал тем, кто способен верить,
не питая сомнений. Существование Бога было для меня совершенно ясным, как и то,
что Иисус жил на зем-
64 Смерть
приходила в понедельник
ле и что заповеди его превыше всего
остального. Но имелось еще бесконечное множество вещей, в которых следовало
разобраться, — да и сейчас, если уж на то пошло, их осталось немало. Для меня
вера — это то, над чем необходимо трудиться непрестанно, стараясь укрепить и
углубить ее, то, что следует отстаивать в любое время и вопреки любым трудностям.
Наше знакомство с Отто Мухсом
обратилось в дружбу. Мухс быстро заметил, что мои родители питают искренний
интерес к библейской вести, и сделал все, что мог, чтобы удовлетворить их жажду
знаний. Он был рад отыскать искренних слушателей. Его питомник был также и
местом встреч живших в Шпандау Исследователей Библии. Они удачно смешивались со множеством приходивших и уходивших покупателей. Открыто
проводить здесь собрания они не могли, но питомник Мухса идеально подходил для
контактов, для обмена номерами «Сторожевой Башни», книгами, новостями и
случаями. Так мы и познакомились с другими Исследователями Библии и мало-помалу
вошли в их круг. В 1933-м — 1934-м годах связь с Исследователями Библии была
еще не очень опасной, но в последующие годы положение резко изменилось. А
поскольку мы стали Исследователями Библии уже после того, как нацисты пришли к
власти, то наша семья осталась им неизвестной и в этом отношении
«незапятнанной».
К сожалению, все осложнялось
тем, что отец был евреем. Что касается меня, ни гестапо, ни тайная полиция
тогда не охотились за мной. Поэтому наш дом стал местом встреч небольшого чис-
Берлин.
Снова Моабит 65
ла христиан, встреч, на которых
присутствовало человек восемь-десять. Конечно, мы проводили встречи с должной
осторожностью. Впрочем, у родителей это, похоже, никаких серьезных опасений не
вызывало. Люди приходили на них всегда по одному, кто-то пораньше, кто-то
попозже. Так же они и расходились. Встречи проводились всегда в разные часы и в
разные дни недели. Мы использовали любые представлявшиеся возможности —
пасхальные дни, Рождество, дни рождения. На стол выставлялись кофейные чашки —
мы были готовы к любым сюрпризам. Дело в том, что мы находились под постоянным
наблюдением. За любой улицей, любым кварталом присматривал особый человек, как
правило, состоявший в СА и бдительно следивший, выполняет ли каждый гражданин
свой долг перед государством или каким-либо образом пренебрегает им. Заботиться
о том, чтобы из нашего окна свисал флаг со свастикой, нам не приходилось. Как
евреи мы считались недостойными этого.
А вот нашим не принадлежавшим
к числу евреев братьям по вере единственный факт отсутствия свастики мог
обойтись дорого. Первое и второе нарушения были чреваты предупреждением, а
дальше последствия принимали очень серьезный оборот. Евреям не разрешалось
участвовать в выборах, но для наших собратьев участие было обязательным. И если
они отказывались, их доставляли в избирательный участок силой. Многим пришлось
просидеть несколько месяцев в тюрьме за отказ. Да что там! Часто люди наживали
неприятности лишь за то, что не прибегали к гитлеровскому приветствию! Теперь
мне понятно, ка-
66 Смерть
приходила в понедельник
кой отвагой должна была обладать моя мама.
Великой отвагой и великой любовью. И, разумеется, огромной силой воли. Она
умела сражаться и знала, как постоять за себя.
Но все же о маминой духовной
жизни и ее духовной борьбе я почти ничего не знаю. И это странно, поскольку ее
личность совершенно не совпадает с ее сохранившимся в моем сознании образом. В
моей памяти она осталась согнувшейся над тазом со стиркой. Мы жили на первом
этаже, а домашняя прачечная находилась на пятом. И маме приходилось оттаскивать
всю стирку наверх — ну и, понятно, вниз. Иногда, перед тем как я уходил утром в
школу, она говорила мне: «Когда вернешься, поднимись за ключами от квартиры в
прачечную». И в полдень я взбегал наверх и обнаруживал ее согнувшейся над
стиральной доской, едва различимую в заполнявших комнату клубах
пара, а рядом в большом котле кипело принесенное для стирки белье.
Она несла на своих плечах всю
заботу о доме. Отцу приходилось сторониться людей, а маме — иметь дело с ними,
и особенно с представителями власти. Из-за того, что отец был евреем, его все
больше ущемляли в правах. При таких обстоятельствах маме приходилось беречь каждый
пфенниг. И она это делала. Отец же экономить совсем не умел. Он вырос в
достатке, и обзавестись такой привычкой попросту не успел. Когда мама время от
времени замечала мимоходом: «Я бы не отказалась от того или этого», он
неизменно отвечал: «Так пойди и купи». Он попросту не понимал, что отсутствие
денег может составлять проблему.
Берлин.
Снова Моабит 67
Что касается моего
воспитания, мама никогда не была со мной строгой или суровой. Но и делать все,
что хотел, не позволяла. Для мамы очень много значили хорошие манеры. Когда я
здоровался со взрослым, мне следовало встать и
поклониться. Если кто-то приглашал нас в гости, на чашку кофе, скажем, я мог
взять только один кусок торта. Когда хозяйка предлагала мне второй, я должен
был сказать: «Нет, спасибо». А затем взглянуть через стол на маму и подождать,
когда она скажет: «Можешь взять еще». Хозяева неизменно находили такой обмен
благовоспитанностью забавным.
Я так и не узнал, что
заставило моих родителей принять веру Исследователей Библии. Только что установилось
правление нацизма. Они искали какого-то прибежища? Вера обеспечивала им укрытие
от надвигающейся опасности? Может быть, учение об Армагеддоне, предстоящей
битве Бога за справедливость, давало им луч надежды? Бог
безусловно был для моих родителей реальностью, а отец хорошо знал, что Бог этот
носит имя Иегова, или Яхве. Прежде они не искали и не находили никакой веры ни
в еврейской синагоге, ни в евангелической церкви, а теперь ревностно
практиковали свою новообретенную веру.
Я не могу не вспомнить
простых слов Антуана де Сент-Экзюпери из «Маленького принца»: «...зорко одно
лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь»8. Не сомневаюсь, он
говорил о нас. Мы научились видеть нашими сердцами, а, возможно, и думать ими.
И вот что наполняло тогда наши сердца: любовь к Богу и сыну его Иисусу Христу,
любовь к нашему ближнему, любовь к нашим дру-
. . . . . . . . . .
8
Перевод Норы Галь (прим. ред.).
68 Смерть
приходила в понедельник
зьям по вере. Потому что если бы все
зависело только от разума и рассудка, я, несомненно, повел бы себя иначе. Пошел
бы в армию, просто сказав себе, что рано или поздно все это закончится. Маме,
если бы она опиралась только на разум, пришлось бы сказать: «Что ж, этим
ребятам следует самим определить, как им жить дальше. Для меня же самое лучшее
— не лезть в их дела. У меня и своих забот хватает». Но нет, она
руководствовалась сердцем, любовью к Богу и его заповедям. Именно так это было
для нее. И для Отто Мухса тоже.
И если бы мы, 20 000
Свидетелей Иеговы, живших тогда в Германии, опирались на разум, на один лишь
рассудок, мы могли бы просто поджать хвосты и рассудить, что дни диктатуры
Гитлера скоро придут к концу и ничего страшного в том, чтобы произносить время
от времени «Хайль Гитлер», нет. Но мы любили Бога, мы искали сердцами истину,
думали сердцами, стремясь доставить радость сердцу нашего любящего Бога.
В те дни, в 1934-1935 годы, я
еще принадлежал к евангелической церкви и предположительно должен был посещать
занятия, на которых детей готовили к конфирмации9.
Я записался на них и пришел. Мы, конфирманты, сидели и ждали, что произойдет.
Лично я не пылал энтузиазмом, да и о других можно было сказать то же самое. Мы
думали лишь о том, сколько раз викарий произнесет нелепицы, а это случалось
довольно часто. Не помню уже, чему он нас учил. Я прекратил ходить
. . . . . . . . . .
9 Конфирмация (от латинского confirmatio — утверждение), у католиков и протестантов (в разных формах) обряд приема в церковную общину подростков, достигших определенного возраста (прим. ред.).
Берлин.
Снова Моабит 69
туда, просто сбежал, и никто не обратил
внимания на мое отсутствие. Так что и конфирмацию я не прошел.
Как-то раз мама подошла ко
мне и очень серьезно сказала: «Мы с твоим отцом решили креститься как Свидетели
Иеговы. Ты уже подумал о том, как хотел бы поступить? Ведь ты пока принадлежишь
к церкви». С тех пор я начал размышлять о том, хочу я оставить церковь или не
хочу. Размышления были непростыми. Покинуть церковь позволялось в возрасте 14
лет, а мне как раз исполнилось 14. И сделать это я должен был сам — мама этого
за меня сделать не могла. Раздумывал я несколько недель. К викарию ради этого
идти не придется, достаточно посетить городской суд. И в какой-то день я
отправился в регистратуру суда. Чиновники сидели за столом, я стоял перед ним.
Стол, казалось, возвышался передо мной, как башня, и чиновники внушали
совершеннейший ужас. В те дни статус государственных служащих был совсем не
таким, как сейчас. Наконец один из них наклонился вперед и спросил, что мне
нужно. Я, заикаясь, ответил, что хочу выйти из церкви. Он повернулся ко мне
спиной, взял печатный бланк, потом спросил, почему я хочу это сделать.
Вот этого-то вопроса я и
боялся. Не мог же я сказать ему, что решил стать Свидетелем Иеговы. К тому
времени на их деятельность был наложен запрет. Но тут в разговор вмешался
другой чиновник: «Франц, ты же знаешь, нам запретили спрашивать людей, почему
они хотят выйти из церкви». Опасность миновала! В первый и единственный раз
нацист помог мне избавиться от неприятностей. А
70 Смерть
приходила в понедельник
произошло это потому, что в ту пору очень
многие покидали церковь по причинам, главным образом, политическим. Те, кто
хотел вступить в такие организации, как Jungvolk10 или Hitlerjugend11, выходили
из церкви. Так что подобные вопросы могли ввести человека в замешательство.
К тому времени публичное
крещение стало невозможным. Но у нас имелась ванная комната с большой ванной и
газовым обогревателем. В ней мы и крестились — мои родители и я. Точной даты я
не помню, как не помню и того, что ощущал при крещении. Но одно я знаю:
сделанное мной было правильным. И помню слова, сказанные мне при крещении: «Никто
да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных
в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (Первое послание к Тимофею
4:12). Всегда ли мне
удавалось быть таким? Сомневаюсь.
Вскоре после этого отца
арестовали. Внезапно его не стало рядом с нами. Для того чтобы оказаться в
тюрьме, достаточно было просто стать Исследователем Библии. А то, что он
являлся еще и евреем, сильно ухудшало его положение. Мама со мной об этом не
говорила — полагаю, не хотела взваливать на мои плечи лишнее бремя. Или
говорила, но я просто забыл? В ту пору случалось много такого, что я
десятилетиями старался забыть или подавить в памяти. Те бурные времена с трудом
поддаются описанию. И как бы я ни напрягал
. . . . . . . . . .
10 «Юнгфольк» — младшая возрастная группа «Гитлерюгенда», в которой состояли мальчики от 10 до 14 лет (прим. тр.).
11 «Гитлерюгенд» («Гитлеровская молодежь») — созданная в декабре 1936-го года молодежная военизированная организация, считавшаяся главным кадровым резервом Национал-социалистической рабочей партии Германии — НСДАП (прим. пер.).
Берлин.
Снова Моабит 71
память, мне ничего не удается вспомнить в
точности. Можно воссоздавать и пересказывать детали, но передать атмосферу,
контекст, дух — нет. Я, по крайней мере, не могу. Мы словно блуждали в тумане,
в дымке, которая оседала, заволакивала мысли. Я помню маму стоящей
у кухонного стола и намазывающей масло на хлеб. Масло тогда продавали по
карточкам, но она плотно и толстым слоем намазывала его, говоря мне: «Ты должен
понять, мой мальчик, я отнесу это папе. А мы с тобой уж как-нибудь перебьемся,
верно?». Я все понимал, но в то же время был голоден. Отца приговорили к девяти
месяцам тюремного заключения. Мы были вне себя от радости, когда он вернулся.
Еще не наступило время, когда человека, отбывшего срок тюремного заключения,
прямиком отправляли в концлагерь.
Но нацизм я возненавидел по
иной причине. Она заключалась в том, что мой отец еврей — человек другой, как
выражались нацисты, «расы». Его работодателю пришлось расстаться со своим
магазином. Он тоже был евреем и не имел права заниматься торговлей — даже в
этом маленьком магазинчике. В результате отец остался без работы. Поступить на
государственную службу он не мог, и ему пришлось присоединиться к длинным
очередям безработных. Я до сих пор вижу его стоящим там и ощущаю печаль,
которую мне это внушало.
Он стоял со своей желтой
звездой, внутри которой красовалась черная буква «J». Такой
одинокий, такой отверженный. Никто не желал разговаривать с ним. А если бы
кто-то и пожелал, у него все равно не хватило бы храбрости. Когда в вагонах
трамваев все места были заняты, евреям над-
72 Смерть
приходила в понедельник
лежало встать, дабы не заставлять стоять
«германцев». Многие из евреев, чтобы избежать такого унижения, предпочитали не
садиться вовсе. Я и сейчас словно вижу людей из СА в их коричневых мундирах
перед дверьми еврейских магазинов. Они держат в руках большие плакаты с
надписью: «Не покупайте у евреев». И очень немногие люди отваживались
заходить в такие магазины. А потом настала «Хрустальная ночь». Евреи называют
ее гораздо точнее: «Ночь позора». Я словно слышу, как мои родители обсуждают
ее. Говорят о том, что тот или этот их знакомый эмигрировали. В Лондон или еще
куда-нибудь. Они вынуждены были продать все, что у них было, — мебель,
ювелирные украшения, — все. С собой почти ничего брать не разрешалось. И,
разумеется, такой ситуацией многие пользовались совершенно бесстыдно. Вещи
продавались за бесценок. Некоторые евреи надеялись, что с ними подобного
безобразия все-таки не произойдет. Чаще всего так обманывались ветераны Первой мировой войны. Они верили, что их верную службу
немецкому отечеству проигнорировать попросту не смогут. Потом среди евреев
пошли разговоры, что тем, кого забрали в Терезиенштадт, вероятно, повезло,
потому что Терезиеншдатд — это всего лишь гетто. Лучше уж оказаться там, чем
отправиться в Заксенхаузен, не говоря уж о созданных
позже Освенциме и Биркенау.
Затем началась война, а с ней
появились и продуктовые карточки. Отец, как и все остальные евреи, получал
половинную карточку. Мать — полную, а и я вовсе никакой, потому что уже жил
нелегально. За двенадцать лет правления национал-социалистов было убито шесть
миллионов евреев.
Берлин.
Снова Моабит 73
Одним из них оказался и мой отец. Еврей,
да к тому же Свидетель Иеговы, он не имел ни малейшего шанса уцелеть. Он стал
одним из шести миллионов, и он был моим отцом.
Думая о тех временах, я
прихожу к выводу, что вырос в вере. Что сделало меня Свидетелем Иеговы? Те две
книги, которые отец положил передо мной на стол, решающего значения иметь не
могли. Наверняка что-то присутствовало в моей душе — внутренняя убежденность в
существовании Бога, сознание зависимости человека от
Единого, который сотворил все сущее. Скорее всего, я уже тогда ощущал
преданность к нему, любовь к нему, стремление найти его — а все дальнейшее
строилось на этом...
Я продолжал складывать,
складывать и складывать листки целлофана. Конца им не было...
В школе нас просили заучивать
наизусть стихи. Какие именно, мы могли выбирать сами. Один мой одноклассник
выбрал «Лорелею». Не подлинный текст стихотворения, а
полностью переработанный. Беднягу тут же наказали, он получил суровую отповедь
за то, что столь бесцеремонно обошелся с одним из лучших поэтов Германии.
Соответственно, и его школьные отметки поползли вниз. Но через
несколько недель тема немецкой поэзии снова вышла на
первый план, и вновь всплыло имя Генриха Гейне. И тут вдруг выяснилось, что
никакой он не немецкий поэт и вовсе не один из последних немецких романтиков.
Ничего подобного — он был еврей, неариец, и даже его обращение в католичество
ему не помогло. Он пере-
74 Смерть
приходила в понедельник
брался в Париж и, весьма неожиданно, стал
«оскорблять» Германию. И его выбросили из школьной программы.
За ним последовали и другие.
Актерам запрещали играть, художникам не разрешали выставлять их картины,
писатели больше не могли публиковать свои книги. Многие эмигрировали в другие
страны, отчего культура Германии обеднела. По всей стране горели костры из
книг, и пламя этих гигантских аутодафе поднималось до небес. Летели в огонь и
издания Свидетелей Иеговы...
Я так и сидел в моей камере,
складывая, складывая и складывая листки целлофана. Высокая стопка его,
казалось, никогда не уменьшалась. По вечерам ее забирали. Приносили обычный
ужин: толстый ломоть хлеба, намазанный маргарином, иногда с кусочком колбасы.
Медленно наступала темнота. Свет больше не зажигали, и заключенному оставалось
только одно — погрузиться в свои мысли.
Потом раздался сигнал
воздушной тревоги. Пронзительный вой сирен раз за
разом усиливался и стихал, усиливался и стихал. На моей памяти это происходило
далеко не впервые. Война шла довольно долго, и Берлин бомбили часто. За
несколько лет до моего ареста — до того, как город начал терпеть серьезный
ущерб от бомбежек, — люди специально ходили посмотреть на разрушенные бомбами
дома. Но это было давно. В настоящее время в городе вряд ли осталось хотя бы
одно неповрежденное здание. Но тот воз-
Берлин.
Снова Моабит 75
душный налет, который мне пришлось
пережить в тюрьме, был намного страшнее всех остальных. Надзирателей наших
видно и слышно не было, они, скорее всего, поспешили укрыться в бомбоубежище.
Надо ли говорить о том, что заключенных оставили в камерах. В жуткой тишине. И
каждый в тревоге ждал, что будет дальше.
Внезапно сквозь тьму, сквозь
зарешеченные окна мы увидели осветительные авиабомбы, которые получили прозвище
«Рождественские елки», и поняли, что тюрьма оказалась в зоне, по которой сейчас
будет нанесен удар. Следом за ними словно разверзся ад. Прожектора шарили по
небу, отыскивая вражеские самолеты. Видели мы немногое, зато слышали более чем
достаточно. Мы услышали, как свистят и завывают бомбы, как они взрываются.
Стены тюрьмы тряслись и раскачивались. Казалось, что она рухнет. Заключенные
визжали и, колотя по дверям камер, кричали, чтобы их выпустили. Тщетно. Затем откуда-то
снизу донесся требующий тишины голос тюремного надзирателя. Никто его
требования не исполнил. Мы были заперты, беспомощны, и отчаяние наше граничило
с безумием.
Я тихо сидел в своей камере.
Я хорошо понимал, что повлиять на происходящее решительно не могу, и потому,
пока продолжалось всеобщее смятение, старался успокоить свои нервы. В подобные
моменты — и я всегда это подчеркиваю — человек демонстрирует силу
76 Смерть
приходила в понедельник
своей веры, понимание того, что в минуты
полной беспомощности за ним стоит некто Высший. Но, разумеется, полностью от
тревоги избавиться невозможно. В конце концов человек
— это всего лишь человек.
И вдруг все кончилось. Ни
свиста, ни воя, ни взрывов. И это тоже казалось жутким, пугающим, но
мало-помалу заключенные успокаивались. Вопли и стук в двери прекратились. Время
от времени только громкий крик эхом доносился то из одной, то из другой камеры.
Люди выкликали имена друг друга, желая узнать, что тот или другой их знакомый
остался в живых. И наконец, сирена, протяжно взвыв на
прощание, смолкла. Бомбардировщики улетели, бомбежка закончилась. Мы услышали
голоса возвращавшихся надзирателей. Они разошлись по своим блокам и начали
отпирать камеру за камерой, проверяя, нет ли пострадавших. Грохот тюремных
ключей и хлопанье дверей десятилетиями отдавались эхом в моих снах.
77
VI
Берлин. Тюрьма
Тегель
Утро в полной суматохе. Ни
умыться, ни возможности привести себя в порядок. Очень поздний завтрак.
Надзиратели необычайно молчаливы, кухонным заключенным тоже явно запретили
открывать рот. Должно быть, что-то случилось.
Меня переводят в тюрьму
Тегель. В скольких местах я уже сидел? Данциг, Александерплац, Моабит — и
теперь Тегель. Но почему именно в Тегель? Что произошло в Моабите? Между этими
тюрьмами существовало одно различие. В Тегеле заключенным не полагалось
работать в камерах. Это был настоящий исправительный дом. Заключенных
заставляли работать в тюремных мастерских, а иногда и за пределами тюрьмы — в
так называемых
78 Смерть
приходила в понедельник
«рабочих командах». И никаких книг здесь
мне не выдавали. Я больше не мог путешествовать по миру.
В немецких тюрьмах царил
определенный порядок. Приладиться к нему мне большого труда не составляло.
Условия здесь были примерно такие же, как в Данциге или Моабите. Отличались от
всех лишь гестаповские тюрьмы — Александерплац смердела от грязи. Теперь мне
оставалось только одно: ждать. Ждать предъявления формальных обвинений, ждать
определенной даты, поскольку без суда дело никак не обойдется — уж в этом-то не
было никаких сомнений...
По улицам маршировали люди из
СА в коричневых рубахах и кожаных сапогах, с высоко поднятыми знаменами. «Знамя
плещет впереди», — так они пели. Каждому, кто оказывался на улице, по которой
они проходили, надлежало остановиться и со всевозможной почтительностью
поприветствовать их. Исключение составляли евреи. Им делать этого не
разрешалось. Мы, Свидетели Иеговы, приветствовать их флаг не желали, поскольку
видели в этом акт поклонения. А так как СА выполняла функции вспомогательной
полиции, мы старались избегать этих людей и, завидев их, сворачивали за угол.
Иначе любого из нас могли избить или арестовать.
Государство было всесильным.
Ребенком тебе следовало вступить в Jungvolk, а чуть позже — в Hitlerjugend. Оттуда ты попадал на добровольные работы или в армию. Примерно то
же происходи-
Берлин.
Тюрьма Тегель 79
ло и с девочками — они вступали в Bund deutscher Mädel12, а затем в NS-Frauenschaft13 или отправлялись на трудовой фронт. Равенства перед законом больше
не существовало, как не существовало ни свободы вероисповедания, ни свободы
совести, ни свободы идеологической. Всем надлежало вскидывать в приветствии
руки и служить в армии. Что также было насилием над совестью человека.
Мои биологические родители
решили воспользоваться новой ситуацией. Они опять обратились в суд с просьбой
вернуть им их ребенка. Мои реальные родители подали встречный иск, который все
еще находился в процессе рассмотрения. Так что вопрос опеки надо мной оставался
открытым. Время шло, но, увы, у моих настоящих родителей никаких козырей на
руках не осталось. Вынесенный в конце концов вердикт
гласил: «Арийский ребенок не должен воспитываться евреем». И это означало, что
я обязан перебраться к моим биологическим родителям. Мама сказала мне: «Мы
сделали все, что могли. Решать тебе. Ты должен разобраться, чего ты сам
хочешь». Абсолютно никаких сомнений у меня не было. Я хотел остаться с моими
родителями. Я просто не стал ничего предпринимать, и, похоже, мама это
одобрила. Я продолжал ходить в школу. И, как ни странно, биологические родители
тоже ничего не предпринимали. Может быть, им не хватало храбрости прийти и
забрать меня?
. . . . . . . . . .
12
«Союз немецких девушек» — массовая молодежная женская организация, входившая в
состав «Гитлерюгенд» (прим. пер.).
13
«Национал-социалистический женский союз» — женская организация в рамках НСДАП (прим.
пер.).
80 Смерть
приходила в понедельник
Затем в один прекрасный день
к нам заявился судебный пристав с портфелем и приказал
мне следовать за ним — к моим биологическим родителям. Я был расстроен и обескуражен.
Должен сказать, я и по сей день помню цену, которая была установлена для
«объекта» (то есть, попросту говоря, для меня) — 500 рейхсмарок. Вот, значит,
сколько я стою? Мне показалось, маловато. Но сопротивление не имело никакого
смысла. Пристав дал ясно понять, что если я не пойду с ним по собственной воле,
ему придется вызвать полицейских. А это ничего хорошего не сулило. Я пошел с
ним, и он доставил меня куда следовало. Мне трудно
описать положение, в которое я попал. Я был глубоко удручен. Все в их доме
представлялось мне чужим, непривычным. Братья и сестры оказались совершенно посторонними мне людьми. Впрочем, устанавливать
какие-то отношения со своей «семьей» я вовсе не стремился. С самого начала я
думал только об одном — как бы сбежать. Но как? Денег у меня не водилось, а
дорога до Шпандау была не близкой. И, конечно, с меня не спускали глаз.
Не помню уже, как я это
сделал и где взял деньги на дорогу. Пешком я добраться до Шпандау не мог, это
точно. Так или иначе, я вновь оказался у моих родителей, и они сочли, что я
поступил хорошо и правильно. Увы, скоро к нам снова явился судебный пристав с
новым распоряжением суда (со времени его прошлого визита я в цене не вырос) — и
снова отвел меня к биологическим родителям. На этот раз, прежде чем мне
представилась возможность сбежать, прошло несколько больше времени. Но я
терпеливо дождался своего часа и проделал обратный путь.
Берлин.
Тюрьма Тегель 81
И я, и мои родители понимали,
что вечно это продолжаться не может. А затем произошло нечто такое, чего я не
предвидел. В следующий раз пристав отвел меня не к биологическим родителям, а в
приют для мальчиков. По счастью, приют находился в Шпандау. Я почти ничего о
нем не помню — только то, что мы, дети, спали в одной большой спальне. Мои
мысли были сосредоточены на побеге. Выбраться из этого дома, а затем незаметно
проскользнуть через парк было не просто, но я все же справился.
После того случая судебный
пристав начал относиться к своим обязанностям спустя рукава. Может быть, он устал
от меня, а может, ему просто не нравилось выполнять роль
мальчика на побегушках в деле, которое он не одобрял. Визиты его к нам стали
более редкими, а я, едва завидев его приближение, спрыгивал с балкона и
скрывался в расположенном за домом парке. Естественно, в школу я больше не
ходил, так что экзамены мне сдавать не пришлось. Отныне я прекратил официальное
существование, просто-напросто исчез с лица земли.
Казалось, все встало на свои
места. Все смирились с моим положением, никто не протестовал. У нас и так
хватало проблем. Отец не зарабатывал практически ни гроша. Будучи евреем, он
мог получить — а мог и не получить — лишь очень скудно оплачиваемую работу.
Однако настоящая опасность нависла над нами, когда в дом явились гестаповцы с
ордером на мой арест. Я был признан на военную службу, но призывной повестки не
получил. Да и как я мог ее получить? Гестаповцы вручили повестку моей матери.
Меня не было. С тех
82 Смерть
приходила в понедельник
пор мое положение стало опасным, очень
опасным.
И все же мои настоящие
родители по-прежнему заботились обо мне, давая лучшее из того, что могли, —
эмоциональную поддержку. Я продолжал жить в их квартире, и поначалу все шло
хорошо. Мой призыв в армию совпал с началом Второй
мировой войны — 1 сентября 1939-го года.
Надо сказать, что Берлин
войны не почувствовал. Война — это было что-то, что случилось в Польше. Газеты
печатали полные воодушевления отчеты об одержанных победах, и большинство людей
не сомневались в том, что война продлится недолго. Но когда в нее вступила
Англия, отец сказал мне: «Германия войну проиграла», — и объяснил, что Британия
— это мировая держава, одолеть которую не удавалось еще никому — и не удастся.
Десять лет, которые он там провел, совершенно убедили его в этом.
Дружественное общение между нашими соверующими также приостановилось. Мы решались
навещать друг друга лишь для того, чтобы передать номер «Сторожевой Башни» или
другие издания. Мы постоянно чувствовали, что за нами следят. Не гестапо, но
квартальные караульные — люди из СА или НСДАП, никогда не спускавшие глаз с
улиц. Да и соседей тоже следовало опасаться. Страх разрастался и
распространялся с каждым днем. Взаимное доверие ослабевало. И не было никакого
способа узнать, можно ли доверять тому или иному человеку. Скромные встречи в
нашем доме — я уже не назвал бы их собраниями — прекратились, так как в любой
момент могли на-
Берлин.
Тюрьма Тегель 83
грянуть гестаповцы, а также потому, что
агитация, направленная против евреев, с каждым днем усиливалась. Ни одна
квартира не была для нас достаточно безопасной. Единственным надежным местом
остался питомник Отто Мухса. Там мы могли встречаться без особых опасений,
поскольку покупка овощей — дело вполне естественное. И питомник стал местом,
где мы могли встречаться и обсуждать нашу работу.
Годы, которые я провел на
нелегальном положении — с начала войны до моего ареста в 1943-м, — определенно
были самыми трудными. Всегдашняя опасность, необходимость постоянно быть
бдительным доводили нервы до полного истощения. Мои братья по вере приглашали
меня немного пожить у них. И прежде всего Отто Мухс.
Впрочем, были и другие готовые помочь мне люди. Например, какое-то время мне
предложили пожить в районе Рейникендорф. А потом, когда я начал помногу
разъезжать, нашлись безопасные дома в Тюрингии и в Данциге. И все же большую
часть времени я оставался рядом с моими родителями, и мы вечно гадали, когда
гестаповцы нагрянут вновь. По счастью, они появлялись не слишком часто, но,
правда, всегда неожиданно. И когда появлялись, мне приходилось прыгать с
балкона. А затем часами слоняться по улицам, пока я не набирался решимости
вернуться домой. Сегодня я уже не помню, какой условленный знак выставляла мама
в окне, чтобы дать знать — опасность на время миновала.
Меня по сей день изумляет то обстоятельство, что людям из
Государственной полиции так и не пришло в голову выставить посты с тыльной
84 Смерть
приходила в понедельник
стороны домов.
Если бы они сделали это, я рано или поздно спрыгнул бы с балкона прямиком в их
руки. Многие, наверное, скажут, что мне просто везло. Нет, не думаю. Столько
раз «везти» человеку попросту не может. Будучи верующим, я вижу в этом
руководство моего Бога Иеговы. Но тут же возникает новый вопрос. Почему именно
я? Почему я остался в живых? Более 250 моих братьев были, подобно мне, приговорены
к смерти и затем казнены. И я не могу ответить на вопрос: почему именно моя
жизнь была сохранена?
Прямо
через улицу от нас жила в квартире, расположенной на втором этаже, госпожа
Рубинштейн. Она была еврейкой, опытной преподавательницей, однако преподавать
ей в те времена не разрешали. Квартира ее по размерам была точь-в-точь как
наша, только обставлена совершенно иначе. Нас на 60 квадратных метрах жило
трое, и мы вынуждены были приспосабливаться к тесноте, она владела всей этой
площадью одна. В маленькой комнатке у нее находилась спальня, в той, что побольше — гостиная. Там стояли обтянутые кожей кресла, у
эркерного окна располагался обеденный стол. Но самое большое впечатление
произвел на меня ее книжный шкаф. Такой большой библиотеки я еще не видел.
Конечно, там имелись книги и брошюры для преподавательской работы, но были и
романы совершенно не известных мне писателей. А кроме них — труды по истории
Греции и Рима и множество книг о путешествиях, которые я так любил. Лишь
библейской литературы в ее шкафу, увы, не было, равно как и Библии.
Часто,
очень часто госпожа Рубинштейн уезжала из дома на
несколько недель. И всякий раз
Берлин.
Тюрьма Тегель 85
оставляла ключ от
квартиры нам и просила присматривать за ней. В этих случаях я проводил все
время в ее квартире совершенно один. У нее был радиоприемник, но родители
строго-настрого запретили мне включать его, дабы никто не заметил, что в
квартире кто-то есть. Отец нередко настраивался на английскую станцию — это
было делом запрещенным, опасным, но он, хорошо владевший английским, устоять
перед таким искушением не мог. И, дослушав передачу, никогда не забывал
переключиться на немецкую станцию.
Я
проводил недели, дни и ночи, в этой квартире, не покидая ее. Раз в день мне
приносили еду. Я чувствовал себя в относительной безопасности, хотя госпожа
Рубинштейн опасалась, что гестапо может в любую минуту прийти и за ней. И все
же у нее я ощущал себя в большей безопасности, чем в
квартире родителей. Случалось так, что, пока я лежал на ее настоящем толстом
ковре, уткнувшись носом в книгу, а то и в «Сторожевую Башню», которая
существовала теперь лишь в виде самодельных копий, Государственная полиция
производила обыск в квартире моих родителей.
Гестаповцы не заглядывали к нам каждую неделю, иногда до следующего их появления
проходили месяцы. Но знание, что они могут нагрянуть в любую минуту, сильно
действовало на нервы.
Я часто спрашиваю себя, как
много знала госпожа Рубинштейн на самом деле? Рассказали ли ей мои родители
все, или она предпочитала ни о чем не знать и просто хотела помочь нам? Она и
сама находилась в трудном положении и все-таки помогала нам, когда мы вынуждены
были держаться на расстоянии от других наших соседей.
86 Смерть
приходила в понедельник
Что было, кстати сказать, и не трудно,
поскольку какие-либо отношения с евреями считались недопустимыми. И что потом
стало с госпожой Рубинштейн? Я искренне надеюсь, что ей удалось пережить те
трудные годы.
В тот период к нам однажды
заглянула Мария Аппель. Я увидел ее спускавшейся по лестнице, которая вела к
нашему дому. Я сидел в нашей квартире один и опасался, что меня могут заметить,
когда мне придется открыть дверь на ее звонок. Она была в глубоком горе и очень
хотела поговорить с моими родителями, но, поскольку их не было дома, рассказала
о том, что у нее стряслось, мне. Она только что получила известие о казни ее
мужа. Я, юнец, и понятия не имел, как реагировать на столь страшную новость. Я
взял ее за руку, мы вместе поплакали. Возможно, это была не самая плохая
реакция, потому что впоследствии она вспоминала о ней с большой благодарностью.
Но когда наконец появились родители, я испытал
облегчение. Как хорошо, когда рядом есть тот, кто разделит с тобой твои горести
и печали, человек, понимающий, что именно следует делать в таких ситуациях. Без
этой взаимной заботы, без этих уз единства мы, наверное, не смогли бы достойно
пережить те времена.
Мы снова переехали. Это
произошло году в 1941-м — 1942-м. И на сей раз не по собственной воле. Общество
домовладельцев известило нас о выселении, по-видимому, не желая, чтобы в одном
из его домов жили евреи. Новое жилье родители искали очень долго и, наконец,
нашли в Гоэнгато что-то вроде садового коттеджа в приятной, близкой к реке
Гавель местности, очень зеленой,
Берлин.
Тюрьма Тегель 87
со стоявшими среди деревьев виллами. Я
нарочно назвал наш новый дом коттеджем, поскольку виллой назвать его было никак
нельзя. Размерами он не превосходил садового сарайчика, а стены у него были
очень тонкие. Внизу находились две комнаты и веранда, а наверху, мод крышей,
еще две комнатушки, в которых можно было устроить спальни. Перед ними находился
балкон, но я на него никогда не выходил, боясь, что меня заметят. Кухня в доме
отсутствовала, и мама установила в коридоре, который вел к уборной,
электрическую плитку с двумя конфорками. Ванной тоже не было. Дом не
отапливался, мы держали в одной из комнатушек электрический обогреватель
мощностью в два киловатта, но, конечно, согревать весь дом он не мог. К тому
же, когда моя отважная мама готовила на плитке еду, обогреватель приходилось
выключать. Конечно, бытовые неурядицы раздражали. Но, по крайней мере, мы были
вместе.
Теплые дни мы проводили па
веранде. С нее была видна передняя дверь и добрая часть дороги. В домишке
имелся и черный ход и даже калитка в заборе, окружавшем сад за домом. Это означало,
что я мог незаметно покидать дом и укрываться среди деревьев и кустов, росших
за садиком.
Весь участок имел площадь
примерно в 800 квадратных метров. Он зарос травой и никакой работы не требовал.
А наш дом представлял собой вполне приличный коттедж, в который хорошо
приезжать на выходные — от него было всего метров 100 до очень приятного
гатовского пляжа. Мы на пляж никогда не ходили, я не мог позволить себе так
рисковать.
88 Смерть
приходила в понедельник
Мы завели пса, но не
удовольствия ради. Песик был невелик, но звонко лаял,
что от него и требовалось. Мама находила удобным заранее знать о чьем-либо
приближении. Завели мы и кошку, потому что в доме развелись мыши. Так что нас
можно было назвать полноценной семьей. Вспоминая то время, я невольно
преклоняюсь перед мамой, сумевшей создать уют и вести жизнь «нормальную»
настолько, насколько было возможно в тогдашних обстоятельствах...
Камера в Тегеле понравилась
мне больше, чем прежняя, в Моабите. Не потому, что она была лучше обставлена —
мебель здесь оказалась той же самой и складная койка была все той же, с
неизменным сине-белым одеялом с вафельным рисунком. Просто окна в ней были почище и пропускали немного солнечного света. И все же
что-то тут было не так. Меня начал донимать зуд в руках и по всему телу. Я
чесался — не помогало. А стянув с себя тюремную
куртку, я увидел, что кожа моя покрыта множеством красных прыщиков. Укусами
вшей они не могли быть вызваны — «почерк» вшей я знал по тюрьме на
Александерплац, следы от их укусов выглядели иначе. И я решил, что дело в
клопах. С этой разновидностью фауны я не был близко знаком. И подумал, что надо
сообщить о клопах при следующей утренней проверке.
Как только в замке повернулся
ключ, я отскочил к окну и быстро отбарабанил всегдаш-
Берлин.
Тюрьма Тегель 89
нее: «Заключенный Хорст Гюнтер Шмидт,
родился 14 августа 1920-го, арестован за...» и т.д. и
т. п.
Надзиратель окинул мою камеру
быстрым взглядом и спросил: «Что-нибудь еще?». «Да, — ответил я. — По-моему, в
камере завелись клопы». «Клопы?! — взревел он. — Да они есть в каждой
порядочной берлинской семье!».
Не сказав больше ни слова, он
захлопнул дверь. Ну что же, подумал я, значит, придется привыкать к моим
сожителям. Но нет. Это ведь не тюрьма на Александерплац, в которой я вынужден
был привыкать ко вшам, хотя так и не привык, поскольку
их полчища что ни день становились все многочисленнее. Эта тюрьма походила на
ту, что была в Моабите. Здесь работали государственные служащие, наделенные
чувством ответственности. Пару часов спустя дверь отворилась, и я услышал
приказ: «Шмидт, на выход с вещами. Дезинфекция!».
Меня отвели в душевую, и я
простоял под струями воды, сколько душа просила. Тем временем мои вещи продезинфицировали,
и после недолгого ожидания я получил их назад. Разумеется, заключенные время от
времени принимали душ, но далеко не каждую неделю. А этот я никогда не забуду.
Меня отвели обратно в камеру,
где тоже провели дезинфекцию. Запах от нее все еще наполнял камеру и на несколько следующих дней
пропитал мою одежду. Но клопы исчезли...
90 Смерть
приходила в понедельник
Коттедж в Гоэнгато стал
последним нашим пристанищем перед тем, как разразилась катастрофа. Жить нам
становилось все труднее. Если отцу вообще удавалось найти работу, то она
оказывалась для него непосильной. К тому времени евреи могли получать только
неквалифицированную работу, физическую, очень тяжелую и скудно оплачиваемую. И
при всем том им полагалась лишь половинная продуктовая карточка. Маме пришлось
заняться поисками источника дохода. С помощью знакомых и газетных объявлений
она нашла работу. Ей предложили развозить газеты по определенному маршруту. Она
бы взялась и за это с охотой, но у нее не было велосипеда, да и ездить-то на
нем она не умела! И у нас возникла идея, которая сейчас, задним числом, кажется
совершенно безумной. Но жизнь была такова, что прожить на заработки отца мы,
как бы мама ни экономила каждый пфенниг, попросту не могли. А у меня имелся
старый велосипед. Мы решили, что доставлять газеты буду я — несмотря на то, что
у меня отсутствовало удостоверение личности и меня мог
задержать любой дорожный патруль.
Итак, мама отправилась в
Шпандау в издательство «Шерл», и получила работу. Ей поручили доставлять
местную газету и кое-какие иллюстрированные журналы в Кладо, район, находящийся
километрах в 9 от Шпандау. Мама договорилась с управляющим конторой, что в
Кладо газеты будут привозить автобусом, а там она станет забирать их у
водителя. И эта система сработала, хотя из-за воздушных налетов автобус нередко
запаздывал, и мне приходилось подолгу его дожидаться, что в зимние холода было
совсем не легко. В те дни Кла-
Берлин.
Тюрьма Тегель 91
до был еще
деревней, но там имелись тянувшиеся до самого озера Глинек (а это километром
пять) дороги, вдоль которых стояли частные дома. Зимой было трудно пробраться
на велосипеде через лед и снег на дорогах, которые почти никогда не посыпались
гравием. Особенно запомнилось мне одно зимнее утро, совсем темное (газеты
полагалось доставлять как можно раньше). Холод стоял страшный, озеро замерзло,
кто-то вырубил на нем лед, и ветер жутко посвистывал, завиваясь вокруг острых ледяных
глыб. Нескоро я сообразил, откуда берется этот звук, и избавился от страха. В
ту зимуя очень много мерз и голодал.
Издательство «Шерл» выпускало
и вечернюю газету, которая продавалась в розницу. Она была довольно популярна,
и мы этим воспользовались. Как и утренний выпуск, вечерний тоже доставлялся
автобусом, и я ехал с номерами гаметы к большим казармам, стоявшим между Гато и
Кладо. В казармах жили главным образом офицеры-телеграфисты, с удовольствием
покупавшие эту газету. Главная трудность состояла в том, чтобы проскочить мимо
часового без досмотра. Каждый раз это стоило мне одного номера гаметы. Такая
взятка вкупе с берлинским нахальством заменяла мне
удостоверение личности. Был только один случай, когда меня попросили предъявить
документы, но я и тогда отвертелся. Думаю, часовой поверил
моим объяснениям. Но с тех пор, завидев его на посту, я в казармы не совался.
Раз в неделю, а может быть, в
месяц (точно не помню) мама брала меня с собой, и мы ехали в контору
издательства, чтобы получить заработок. Не могу с уверенностью сказать, что
начальник кон-
92 Смерть
приходила в понедельник
торы не знал или не подозревал о том, что
происходит. Но ему хватало такта не задавать никаких вопросов. Времена
изменились настолько, что далеко не все немцы с восторгом кричали «Хайль
Гитлер». Однако страх и тревога держали всех, точно в тисках, и на страну
опустилось глубокое молчание. Ничего не стоило стать жертвой доноса и оказаться
в концлагере. Слово «доверие» писалось маленькими, очень маленькими буковками.
Через некоторое время работа,
которой я занимался несколько месяцев, закончилась. Такое напряжение нервов
нельзя переносить бесконечно. В конце концов ты просто
начинаешь совершать ошибки. И мы решили, что самое лучшее — от этой работы
отказаться. Но жить без денег было трудно.
Порой для меня находилась
поденная работа у Отто Мухса. После последнего переезда мы стали видеться реже.
Хотя его питомник оставался лучшим местом встреч для обмена номерами «Сторожевой
Башни» и другими изданиями. Увы, многие из наших братьев были уже арестованы и
сидели по тюрьмам, и я с грустью наблюдал за тем, как хорошо функционирующая
подпольная организация теряет своих членов.
Я попытался восстановить
некоторые старые связи. Я также получил адрес друзей, живших в Грейце, и
съездил к ним. Там я обзавелся связями с Цвикау и фогтландской деревней,
называвшейся Рентшмюле, где познакомился с Герхардом Либольдом. Герхард получил
призывную повестку, но в армию идти отказался. Его отца приговорили к смерти и
казнили — тоже за отказ от службы в армии. Мог ли Герхард служить государству, ко-
Берлин.
Тюрьма Тегель 93
торое убило его отца? Итак, в октябре
1941-го Герхард приехал в Берлин. А в декабре 1942-го к нам присоединился
Вернер Гасснер из Грейца, что в Тюрингии. Вернер уже был солдатом, его ранили
на фронте, и он приехал домой — в отпуск по ранению. Вся его семья принадлежала
к Свидетелям Иеговы, и он больше не мог противостоять их аргументам. И принял
решение в армию не возвращаться.
Это время оказалось особенно трудным
— трое молодых парней без продовольственных карточек плюс мой отец с половинной
карточкой. Мы целиком и полностью зависели от наших братьев по вере. В то время
мы по-настоящему поняли, что означает их поддержка. Только держась друг за
друга, мы и смогли пережить ту пору. И мы держались. Главным образом, духовно
подбадривая друг друга нашей бесценной верой. Результат всегда оказывался
недвусмысленным: каждый, кто отделял себя от других и полагал, что сможет
справиться со всем в одиночку и остаться преданным своей вере, был безнадежно
потерян. Поддержку мы получали от таких столпов нашей веры, как моя мать и Отто
Мухс, сохранявших твердость и живших вопреки всем опасностям, наделяя силой всю
нашу группу. Они были связующими умами нашего единства и не знали страха...
94
VII
Внешняя команда
Я услышал звук приближавшихся
из коридора шагов, дверь камеры отворилась. В это время суток такого никогда не случалось. Стоявший за дверью надзиратель,
офицер, объявил, что завтра меня поведут на работу вне тюрьмы, в составе так
называемой Aussenkommando — «внешней команды». Это стало настоящим сюрпризом, я пришел в
полное недоумение. Конечно, в Моабите заключенные тоже работали, но в своих
камерах. А теперь меня вывезут наружу, за тюремные стены? Почему, учитывая все
предъявленные мне обвинения, именно меня? А если я сбегу? Или они знают, что
Исследователи Библии настолько честны, что не считают возможным пользоваться
ситуацией, которая
Внешняя
команда 95
позволяет совершить побег? В концлагерях
Исследователям Библии поручали такие работы, на которые других заключенных
выводить не решались. И именно по этой причине. Что ж, наверное, им просто
позарез нужны рабочие руки.
И вот на следующий день
печально известная «Зеленая Минна» куда-то повезла
меня. Насколько я мог судить, ехали мы на восток. Окон в
«Зеленой Минне» не было, только вентиляционная щель, а через нее много не
разглядишь. Когда дверь отворилась, выяснилось, что мы остановились
неподалеку от Александерплац. Эту часть города я вообще не знал. Я знал
западную часть. Я во время моих мальчишеских исследовательских прогулок не
углублялся в город дальше знаменитого Острова музеев. Особенно сильно привлекал
меня музей Пергамон. Я часто прогуливался по знаменитому бульвару Ундер ден
Линден (Unter den Linden) и ездил с матерью за покупками на Фридрихштрассе и Лейпцигскую
площадь. Но все, что лежало за пределами этих мест, оставалось мне не
известным. Я оказался на неведомой территории.
Где мы будем спать? На сей
раз не в камере, я, во всяком случае, не рискнул бы ее так назвать. Это была
просторная комната с нормальными большими окнами. Зарешеченными, но, по крайней
мере, они пропускали солнечный свет и позволяли увидеть задний двор и тыльную
часть какого-то дома. В ком-
96 Смерть
приходила в понедельник
нате стояло около 20 коек с матрасами и
одеялами в обычных бело-синих пододеяльниках. Выходит, у меня будет компания.
После долгого времени, проведенного в одиночке, я ощутил свободу, но
одновременно и некоторую неуверенность.
Спальня, она же «жилая»
комната, понемногу заполнялась людьми. Заключенные, уже проведшие здесь
какое-то время, вернулись с работы на обеденный перерыв, других же, подобно
мне, только-только привезли сюда. В углу комнаты стояло несколько столов, за
которыми мы ели. Мало-помалу мы перезнакомились. О том, почему каждый оказался
в тюрьме, разговоров почти не велось. Мы не хотели знать этого друг о друге. А
если что-нибудь на сей счет и рассказывалось, то вряд
ли было правдой. Мы выслушали несколько весьма любопытных историй.
За нами присматривали двое
охранников — один постарше, другой помоложе. Работа
была тяжелой, во всяком случае, мне в моем ослабленном состоянии она показалась
такой. Мы разбирали завалы, используя лопаты и две тачки. А, кроме того, рушили
грозившие обвалиться кирпичные стены. Все это было результатом бесчисленных
налетов американской и британской авиации. Там я остро почувствовал последствия
недоедания и долгих месяцев, проведенных в узких тюремных камерах, за которые и
тело мое, и конечности утратили всякую гибкость. Я выдохся почти мгновенно. Но
должен сказать,
Внешняя
команда 97
что охранники относились к нам гуманно и
не подгоняли.
Воздушная тревога. Охранник
подозвал нас к себе. А следом произошло нечто, меня удивившее. Он не запер нас
в спальне, а отвел в подвальное бомбоубежище. Там мы столкнулись с изрядным
количеством гестаповцев и эсэсовцев, которым наше общество доставило большое
неудовольствие. Они кричали и ругались. Преступники, подобные нам, не имеют
права находиться в бомбоубежище. Мы должны сидеть запертыми наверху, и пусть
бомбы валятся нам на головы, по крайней мере, можно будет сэкономить на оплате
палача. Хороший способ устранения.
Мы постарались сократиться в
размерах, стать по возможности незаметными. Мы — но не наш достойный и честный
охранник. Он встал за нас горой. Чтобы он подобным же образом отстаивал
собственные права, мы ни разу не слышали. Ясно и недвусмысленно он объяснил
крикунам, что несет ответственность за нашу «команду», что эти люди — рабочая
сила и, поскольку работу свою они выполняют, то имеют столько же прав
находиться в бомбоубежище, сколько любые другие. Если же это кому-то не
нравится, будьте любезны подать жалобу начальству тюрьмы в Тегеле. И мы
остались в подвале, а в том, что кто-нибудь подал такую жалобу, я сильно
сомневаюсь.
98 Смерть
приходила в понедельник
Еду нам доставляли из женской
тюрьмы — вернее сказать, туда мы за ней ходили. Каждый день одному из
заключенных приходилось привозить оттуда по улицам бадью с едой, установленную
на двухколесной тачке. Эта работа пользовалась большой популярностью, хоть я и
не вполне понимал, почему. Заключенные выполняли ее по очереди, каждый день
кто-нибудь новый. Когда настал мой черед, мне это совсем не понравилось. Я,
берлинец, вынужден был идти в тюремной робе, с обшарпанной
старой тачкой через весь город, который считал своим. Это было страшно
унизительно. Но унижение я пережил, и все прошло хорошо. Бадью поставили в
тачку, туда же погрузили продукты, предназначенные для ужина и завтрака, и я,
наконец, возвратился назад. А после услышал, как тот охранник, что помоложе,
сказал старшему: «С завтрашнего дня я буду ходить за
едой только со Шмидтом. Он, по крайней мере, не останавливается, чтобы
подбирать окурки». Не могу сказать, что я был от этого счастлив.
Я уже не помню, сколько
времени провел во «внешней команде», но определенно не больше нескольких
недель. Тогда мне были официально предъявлены обвинения. Как я и ожидал, меня
обвинили в уклонении от призыва, противодействии военным усилиям и участии в
незаконной деятельности Международного Общества Исследователей Библии. Слушание
дела Народным су-
Внешняя
команда 99
дом было назначено на 30 ноября 1944-го
года. Старший из охранников отвел меня в сторону. «Ну,
Шмидт, какой приговор ты рассчитываешь получить?» — спросил он. «Смертная казнь
— единственное, чего я могу ожидать», — ответил я.
«Будем надеяться, что все не так плохо». И с этими словами он отправил меня
работать дальше. Охранник проводил меня взглядом, и у меня возникло ощущение,
что он не согласен с тем, что происходит. Времена менялись, недовольство
нацизмом росло.
100
VIII
Перед Народным
судом
Всего через два дня я сидел в
камере тюрьмы Тегеля, ожидая начала суда. Со времени ареста миновало почти
полтора года. На что они ушли? Или, вернее, куда? Оставляет ли время какие-либо
отметины? Изменило ли оно меня? И если изменило, то в какую сторону? Что оно со
мной сделало? Полтора года за решеткой много чего способны сделать с человеком.
Лишение свободы — это также и лишение какой бы то ни было деятельности, возможности развития
личности. Ты ничего не делаешь — делают с тобой. Ты становишься объектом
постоянных унижений и должен вести борьбу за самоуважение. Ты не действуешь, а
реагируешь. Особенно когда тебя допрашивает Государственная
по-
Перед
Народным судом 101
лиция. Ты отупеваешь, утрачиваешь ясность
восприятия, а это плохо. Временами я ощущал себя словно в полусне, как если бы
мне отключили мозг. Я не в состоянии описать это.
Интересно, а внешне я тоже
переменился? У меня не было зеркала, позволявшего увидеть себя. Все предметы, с
помощью которых можно покончить с собой, были конфискованы. Я знал только, что
очень исхудал, потому что легкость от истощения я чувствовал всем своим телом.
Что ждет меня в Народном
суде? Одно только уклонение от призыва было чревато смертным приговором, так
что иллюзий я не питал.
Мысли мои обратились к
друзьям — Герхарду и Вернеру. Они не остались у нас в Гато, это было
невозможно, поскольку туда в любой момент могло нагрянуть гестапо. И мама
отвезла их к Отто Мухсу. Герхард был профессиональным садовником, что оказалось
очень кстати. Он много помогал Отто.
Мухс любил одно место
Писания. Слова эти присутствуют в любом варианте Библии, но я помню их по
переводу Элберфельдера, которым, наряду с другими, пользовались в те дни
Свидетели Иеговы. Перевод был выпущен издательством «Брокгауз», сделан с
оригинального текста и в нем присутствовало имя Бога — Иегова. «В любви нет
страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение.
Боящийся несовершен в любви» (Первое послание
Иоанна 4:18).
102 Смерть
приходила в понедельник
Отто жил в согласии с этими
словами. Полагаю, именно потому он и шел на такие жертвы ради своих братьев по
вере. Для меня, как и для многих других, он был примером в этом отношении.
Мухсу удалось отыскать где-то
мимеограф. Он отремонтировал его и начал копировать номера журнала «Сторожевая
Башня». Затем я отвозил их в Тюрингию или в Данциг. Заниматься этим становилось
все труднее. Гестапо пробило в нашей сети много брешей. Мы вели себя крайне
осторожно. Иногда, явившись по полученному адресу, я встречал человека
чрезвычайно закрытого, и, чтобы завоевать хоть немного доверия, приходилось
несколько раз повторять посещения и вести долгие беседы.
Весной 1942-го года в
питомнике появился и Вернер Гасснер. На такой большой территории было сложно за
всем проследить и проконтролировать. Увы, это продолжалось недолго. 28 декабря
1942-го года Отто Мухса, его жену, Герхарда Либольда и Вернера Гасснера
арестовали. Я избежал ареста лишь потому, что был в отъезде.
Их допрашивали, пытали.
Мухсом занимались сразу трое гестаповцев. Они били его дубинкой по спине и по
голове. А один из них прибегал к пытке особенно зверской. Каждый раз, как Отто
отказывался отвечать «да» или «нет», они сдавливали ему мошонку до тех пор,
пока он не терял сознание от мучительной боли. Его поливали холодной водой, он
приходил в себя, и все начиналось сначала.
После этих страшных допросов
его, как и меня, отправили в тюрьму. А оттуда послали работать на фабрику в
берлинском районе Хакенфель-
Перед
Народным судом 103
де. В марте 1943-го ему удалось бежать, и
до конца войны он успешно скрывался от полиции. Жену его приговорили к пяти
годам тюрьмы. В конце войны ее освободили из тюрьмы города Вальдхайм, что в
Саксонии. Она так и не смогла оправиться от перенесенных душевных и физических
травм и в 1950-м году умерла.
Герхард Либольд был
приговорен Военным трибуналом Рейха к смерти 2 апреля 1943-го года за
противодействие военным усилиям.
Вернер Гасснер был приговорен
Военным трибуналом Рейха к смерти за дезертирство.
Герхарда казнили в тюрьме
города Горден (земля Бранденбург) 6 мая 1943-го года. Ему был 21 год.
Вернера казнили в тюрьме
города Горден (земля Бранденбург) 9 апреля 1943-го года. Ему было 22 года.
Они были моими братьями по
вере и друзьями.
А я? Кто-то назовет это
случайным стечением обстоятельств. Я называю божьим провидением и руководством.
Я избежал той волны арестов. По-моему, был тогда в Данциге. Кто предупредил
меня, кто сообщил после ареста моих родителей, что мне не следует возвращаться
в Гоэнгато, не помню. Знаю лишь, что снова повидать родителей я не смог и
больше не видел их уже никогда.
Мне нужно было искать
пристанище. Кто-то из братьев нашел для меня в Рейникендорфе комнату в
коттедже, где я провел некоторое время в безопасности. Была и другая проблема,
не столь серьезная. Вся моя одежда — белье, рубашки, брюки и так далее —
остались в нашем доме в Гоэнга-
104 Смерть
приходила в понедельник
то, а он был заперт и опечатан
гестаповцами. Несколько дней я в разное время суток наблюдал за ним и,
убедившись, что никто меня не видит, подошел со стороны заднего садика, сорвал
печати и проник внутрь. Там, в темноте, (свет я, разумеется, зажигать не стал)
я собрал и упаковал свои вещи. Я даже поспал там, хоть и не самым мирным сном.
А перед восходом солнца, еще затемно, покинул его.
Впоследствии выяснилось — мое
предположение, что за домом никто не наблюдает, было ошибочным. На одном из
допросов офицер гестапо с большим раздражением воскликнул: «Мы все время ждали
тебя, днями и неделями держали дом под пристальным наблюдением, а ты все-таки
взломал печать и забрал свое барахло!». Опять
случайность? Не верится.
Приближалось 30 ноября
1944-го года, «великий день», в который я должен был предстать перед Народным
судом. В Германии не существовало суда более высокого, чем Народный;
в нем рассматривались только серьезные дела, главным образом, политические. Он
был печально известен обилием смертных приговоров. И я скоро предстану перед
этим судом. Что я могу сказать в свою защиту? Да и получу ли я возможность
защищаться? Мне назначили адвоката. Но я напрасно ждал его — он так и не
появился.
Все оказалось совсем не так,
как я себе представлял. Нас, обвиняемых, было одиннадцать, и все — Свидетели
Иеговы: пять братьев и шесть сестер. Знакомы мы были лишь по-
Перед
Народным судом 105
верхностно или не были знакомы вообще, а
объединяло всех нас, кроме нашей бесценной веры, только одно — обвинение в
нашей деятельности как Свидетелей Иеговы; мы копировали и распространяли журнал
«Сторожевая Башня» и другие издания.
Судьи уселись перед нами в
своих повергающих в трепет красных мантиях. Судьи Народного суда носили красное
облачение. Затем государственный обвинитель начал зачитывать обвинения. Мы
изменили нашей стране, нанесли ущерб германскому Рейху, и законным наказанием
для нас является смерть. Такими были его слова. После чего пришло время
судейского допроси, но допрашивать нас не стали. Никто из нас не получил возможности
выступить в свою защиту. Любая попытка защититься или что-нибудь объяснить,
любое свидетельствование о том, чем горели наши сердца, прерывались криками наподобие: «Вы снова лжете!» или: «Нас не интересует ваша
религия». Нам полагалось произносить лишь «да» или «нет».
Сильно разочаровал меня и мой
адвокат, когда я, наконец, увидел его. Собственно, его так называемая линия защиты — единственная часть
судебного процесса, ясно запечатлевшаяся в моей памяти. Он сказал, что никаких оправданий
моей деятельности представить не может и ограничится лишь указанием на то, что
действия мои могут рассматриваться в свете параграфа 51 раздела 2. Это
означало, что я хоть и не полностью безумен, по все же
106 Смерть
приходила в понедельник
страдаю религиозной манией. Иных доводов у
него не нашлось, да они все равно никакой роли не сыграли бы. Весь процесс, по
теперешним моим воспоминаниям, продолжался не более 30 минут. Или чуть дольше.
Полчаса на то, чтобы вынести
приговоры одиннадцати людям. Пятерых, включая меня, приговорили к смерти. Двое
получили семь лет тюрьмы, трое — пять, а одна из сестер — три года. Все это
проделали от имени народа Германии. К тому времени, однако, число граждан
Германии, одобрявших такие приговоры, значительно сократилось.
Что я почувствовал, когда
огласили приговоры, когда вердикты достигли моих ушей? Ведь человек не способен
осознать свои чувства без каких-то предварительных размышлений. Так о чем же я
думал? Разве не ожидал я этого приговора? Чувства мои были словно заморожены.
На меня надели наручники и вывели из зала.
Снова камера в Тегеле. Как там
сказал судья? «Меня не интересует ваша религия». Что до меня, моя вера была мне
более чем интересна. В конце концов, я здесь оказался из-за того, во что верил,
и потому, что хотел жить по моей вере. И меня жгли вопросы: «Правильно ли я
поступил? Действительно ли моя вера требует, чтобы я следовал по этому пути с
таким упорством, за которое придется заплатить жизнью?». По мне, вера далека от
фанатизма. Фанатизм слеп, безрассуден и склонен к на-
Перед
Народным судом 107
силию. Религиозный пыл — вещь естественная,
но и пыл не должен подталкивать человека к применению силы, к насилию над
другими людьми. Я желал лишь жить по словам Библии, и
это означало, что я должен и хочу подчиняться скорее Богу, чем людям.
И еще это означало «Не
убивай». Слова ясные и недвусмысленные. Я посмотрел однажды в энциклопедии
определение слова «вера». Там сказано: «Религиозная вера — способ отношения к
божественным силам, которые в различных религиях выражаются в различных формах.
Главная концепция христианской веры — это внутренняя убежденность в том, что в
учении и личности Иисуса Христа человек получает историческое откровение Бога».
Апостол Павел выражает это
иными словами: «Вера — это обоснованное ожидание того, на что
надеются, очевидное доказательство существующего, хотя и невидимого». Традиционный
же текст стиха звучит так: «Вера же есть
осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Послание
к Евреям 11:1).
Итак, вера — в той или иной
степени основа христианского мировоззрения. Для меня вера — это необходимость.
Она ведет к уверенности, она и есть уверенность. Вера означает знание
того, что Бог существует и что он заботится о тех, кто уверен в нем. «А без
веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, что-
108 Смерть
приходила в понедельник
бы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и
ищущим Его воздает» (Послание
к Евреям 11:6). Вера есть уверенность в том, что слово Божие будет исполнено.
Вера дает равновесие, твердость, направление, устойчивость. «Если вы не
будете верить, то недолго продержитесь» — писал пророк Исайя, а Павел
пояснил: «...вы спасены чрез веру, и сие не от вас, ...не от дел...».
Итак, правильно ли я
поступил? Я старался устоять с помощью моей веры. Я старался не причинить вреда
ни одному из моих братьев и надеюсь, что преуспел в этом. Разумеется, я совершал
ошибки, которых иногда даже не осознавал. Но поскольку Бог Иегова есть любовь,
я ощущал уверенность. Я верил, что он простит мне ошибки и заблуждения. Таким
образом, вера всегда оказывала мне бесценную помощь. Без нее я не выдержал бы
выпавших испытаний.
И вот я снова в моей камере.
В наручниках, в которые меня заковали, когда я покидал зал суда. Снимать их с
меня уже не станут. Только во время еды и умывания. Они сильно ограничивали
свободу передвижения.
Теперь я знал, что мамы нет в
живых. Один из судей упомянул об этом, почти мимоходом. Конечно, я всегда
понимал, что за сделанное ею она может получить
смертный приговор. Но услышать, что это произошло, притом услышать вот так, в
такой ситуации, — удар очень тяжелый. Не то чтобы он надломил меня. Нет. Меня
точно парализовало,
Перед
Народным судом 109
и за тем, что творилось после этого на
суде, я почти не следил.
В ее обвинительном заключении
говорилось: «Как член Международного Общества Исследователей Библии она
противодействовала военным усилиям и изменнически помогала врагу. Она оказывала
призванным на военную службу людям помощь в их стараниях избежать призыва.
После вступления в брак с евреем Рихардом Израэлем Цеденом, который отказался
от еврейской религии, она сама покинула евангелическую церковь. Вслед за тем
она и ее муж стали ревностными Исследователями Библии, чья деятельность
запрещена на всей территории германского Рейха. Несмотря на то, что ей было
известно об этом запрете, и на то, что в 1938-м году ее муж уже отбыл по
приговору суда девять месяцев в тюрьме, она осталась фанатичной последовательницей
этой веры. Своим поведением она помогала врагам Рейха и ослабляла его Вермахт.
Более того, она полностью сознавала значение и масштаб своих действий. Ее
преступление должно по справедливости рассматриваться как совершавшееся не
единожды, поскольку ее позиция проистекает из разделяемого ею с другими умысла,
а именно из взглядов, направленных на подрыв оборонных усилий, которые она
разделяет с другими Исследователями Библии и которые основываются на их
учении».
В результате генеральный
прокурор потребовал, чтобы дело моей матери было передано в Народный суд.
Слушание назначили на 19 ноября 1943-го года. И маму приговорили соответственно
обвинениям — к смертной казни и пожизнен-
110 Смерть
приходила в понедельник
ному лишению всех гражданских прав за
противодействие военным усилиям и изменническую поддержку врага.
Как это ни удивительно, у
мамы был адвокат. Но я знаю, каким образом такой юрист выполнял свою работу. Да
если бы он и желал действовать иначе, руки у него, легко догадаться, были
связаны, и он, скорее всего, даже говорить свободно не мог. «Противодействие
военным усилиям» — формулировка весьма гибкая. В условиях диктатуры адвоката
легко могли заподозрить в симпатии к тем, кого он защищает.
После этого мама сидела,
ожидая исполнения приговора, в женской тюрьме на Барнимштрассе. Я по
собственному опыту знаю, что представляет собой такое ожидание, как ощущается
при нем ход времени — день за днем, ночь за ночью. Как ходят по кругу мысли, как
они мечутся между надеждой и страхом. Мама хранила твердость в вере, в свои 44 года она была человеком духовно гораздо более
зрелым, чем я, который был вдвое моложе. Вера оставалась ее оплотом. Помогала
ей, как помогала и мне. Нерушимая вера в воскресение — это огромный, глубокий
источник силы. Апостол Павел сказал очень верно: «а если Христос не воскрес,
то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (Первое послание к
Коринфянам 15:14). Но многим мысль о воскресении казалась, да и сейчас кажется,
неправдоподобной. Поэтому в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 28 есть
замечательные слова ободрения: «Не дивитесь сему; ибо наступает время, в
которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут...». Или
в другом переводе: «...все находящиеся в па-
Перед
Народным судом 111
мятных склепах
услышат его голос и выйдут». А еще в одном так ясно и так прекрасно: «Все, кто в памяти
Божией»...
В тот же день, когда маме
вынесли приговор, поверенный защитника внес в дело прошение о помиловании. Мама
писала, что мотивом всех ее действий была любовь, особенно любовь ко мне, и
просила заменить ей смерть тюремным заключением. Просьба о помиловании
поступила и от администрации тюрьмы на Барминштрассе. В ней говорилось:
«Приговоренная к смерти Эмма Цеден ведет себя безупречно. Несмотря на
наручники, она выполняет работу по штопке носков. Ее поведение свидетельствует
о большой самодисциплине».
Но все было тщетно. 31-го мая
был определен срок исполнения приговора. И его привели в исполнение 9 июня
1944-го года. Моя мать пошла на смерть спокойно и тихо, с достоинством и
твердой верой в Бога Иегову. Таково было данное ею
свидетельство, которого никто у нее не отнимет. Даже по тюрьме Вальдхайма, в
которой сидела мать Эрми, ходили рассказы о том, как невозмутима была моя мама,
как она улыбалась, отправляясь на казнь. До последнего мгновения она держала
голову высоко поднятой. Я знаю, что снова увижу ее.
«Сия есть заповедь Моя, да
любите друг друга, как Я возлюбил вас.
Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою за друзей своих.»
Евангелие
от Иоанна, глава 15, стихи 12, 13.
В тюрьме Плётцензее, месте ее
казни, был выписан счет: палач и его подручные получили 120
112 Смерть
приходила в понедельник
рейхсмарок. Еще 2,18 рейхсмарок
израсходовали на их кормление, машина для перевозки обошлась в 14,95
рейхсмарок. Обычно такие расходы оплачивали ближайшие родственники казненных. В этом случае ближайший родственник сидел за
решеткой.
Именем моей матери названа
улица, которая ведет к нынешнему «Музею тюрьмы Плётцензее», она называется
«Эмми Цеден». Ужасная Плётцензее, страшный центр
смерти. Невысокое здание из красного кирпича, окруженное высоким забором.
Место, первенствующее по числу казней, совершенных в Германии. Следом идет
тюрьма Бранденбурга. Во время правления нацистов здесь было уничтожено около
2500 мужчин, женщин и детей. Одних вешали, других отправляли на гильотину.
По-моему, это хорошо и правильно, что правительство Берлина больше не называет
эти деяния казнями, а называет убийствами. За одну-единственную ночь с 7 на 8
сентября 1943-го года, между 7.30 вечера и 8.30 следующего утра здесь повесили
186 человек — группами по восемь.
Приведу цитату из рапорта,
посланного в Министерство правосудия: «Рапорт о казнях (8 сентября 1943, 1.00
пополудни): Повешено 186 приговоренных, еще 117
ожидают в тюрьме. Казни будут продолжены сегодня до 6.00 вечера. Уже получены
распоряжения о новых казнях. Министр будет постоянно информироваться».
Четырнадцать раз в 1943-м и пятнадцать в течение 1944-го года на казнь выводили
супружеские пары. На прошения о возможности увидеться в последний раз таким
приговоренным неизменно отвечали отказом. За
Перед
Народным судом 113
каждого приведенного к палачу приговоренного
дежурный надзиратель получал в виде дополнительной оплаты восемь сигарет. Стало
быть, 186 казней принесли ему 1488 сигарет!
А вот прощальное письмо моей
мамы ко мне:
Берлин-Плётцензее, 9 июня,
1944
Эмми Цеден
Мой дорогой Буби!
Грустно, грустно, я уже очень
давно не получала вестей от тебя. Надеюсь, Гретхен удастся выяснить твой адрес,
и ты сможешь получить мой прощальный поклон. Семь месяцев ожидала я ответа на мое
прошение о помиловании. Но, видимо, такова воля Бога — мне предстоит отравиться
по пути, пройденному Иисусом Христом. Не печалься, мой мальчик, скоро мы встретимся
снова. И, прежде всего, тоже будь храбрым, ибо суд Божий всегда справедлив.
Лишь многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Небесное. Папе я сейчас написать
не могу. Быть может, это и к лучшему. Я хотела бы написать тебе так много слов
любви, но время на исходе. Мы еще увидимся, мой мальчик. Все, что ни делает
Бог, — хорошо.
Теперь же, перед концом,
тысяча приветов и поцелуев.
Твоя мама
114 Смерть
приходила в понедельник
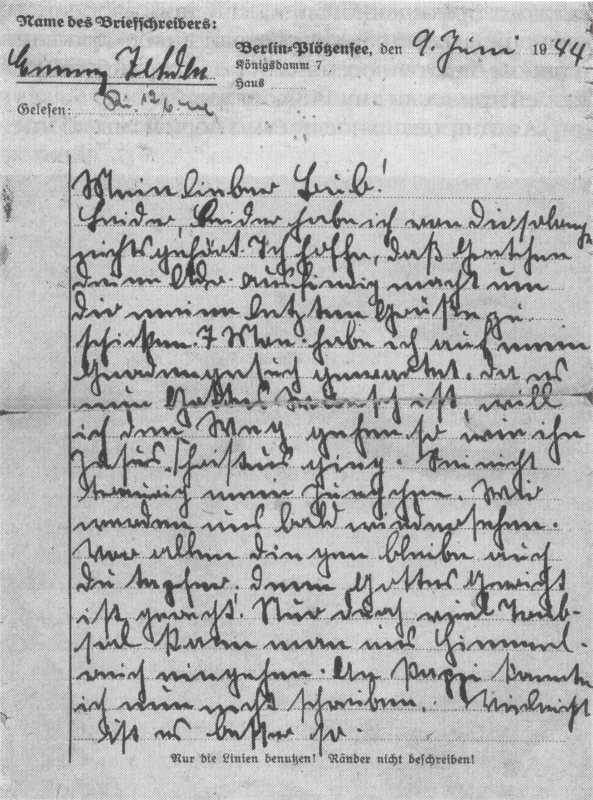
Прощальное письмо Эмми Цеден (из
личного архива)
Перед
Народным судом 115
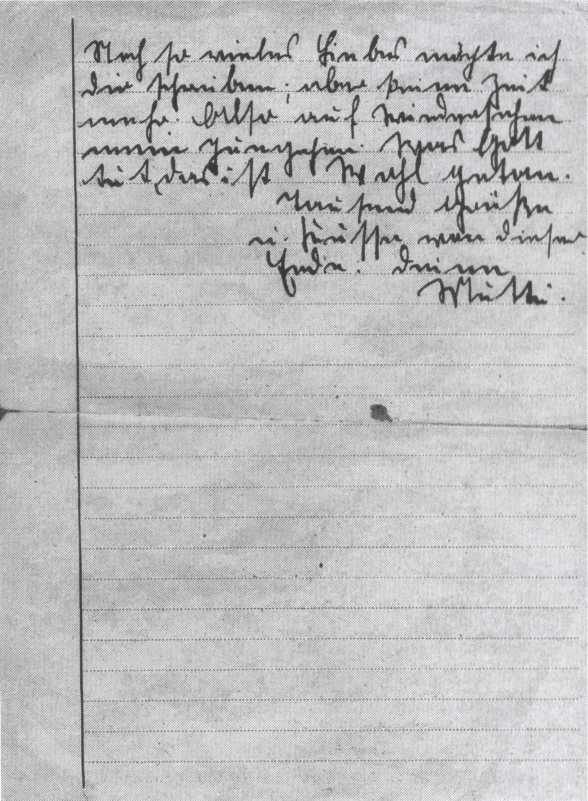
116 Смерть
приходила в понедельник
Было и другое прощальное
письмо, обращенное к двум сестрам по вере, с которыми у нее были особенно
близкие и доверительные отношения.
Мои дорогие Гретхен и Ингелейн!
Прошу нас, не думайте обо мне
плохо из-за моего долгого молчания. Просто не было возможности писать. Теперь
же я хочу с теплотой и любовью попрощаться с вами. Жаль, что время и размеры
этого листка не позволяют написать вам много слов. Но хотя бы одно скажу:
будьте сильны в вере — терпением и добротой. Любите
друг друга, как любит вас Отец наш.
Я попрошу, чтобы немногие мои
оставшиеся вещи отослали вам. Я хочу, чтобы вы сохранили их, пока не узнаете побольше о Буби. Он просил меня не расставаться с этими
вещами, чтобы их получила потом
его Эрмина. Постарайтесь связаться с ним. Если же не получится, распорядитесь
вещами сами. Пользуйтесь ими с любовью и радостью.
Последнее полученное мной от Буби
письмо датировано 9 декабря 1943. Не могли бы вы написать в Данциг, в администрацию
тюрьмы, и попросить адрес Буби? А после прошу вас, перешлите ему мое письмо. Прощайте,
дорогие мои, все во власти Божией.
Перед
Народным судом 117
Дорогая Грета, от всей души
благодарю тебя за твою любовь.
Все, у меня больше не осталось
времени. Дьявол всегда торопится.
Тысяча приветов и поцелуев от
той, кто любит вас всех.
Ваша Эмми
Комментарий:
слова о вещах, которые следует отдать Эрмине, были,
вероятно, просто попыткой мамы связаться со мной, ее Буби, поскольку мы с ней никогда
о том, чтобы передать ее одежду Эрмине, не говорили.
118 Смерть
приходила в понедельник
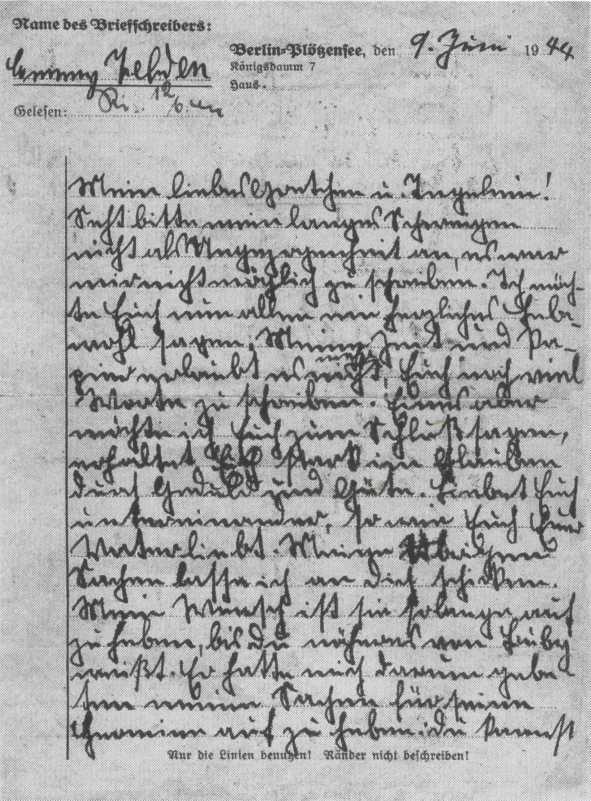
Прощальное письмо Эмми Цеден (из
личного архива)
Перед
Народным судом 119
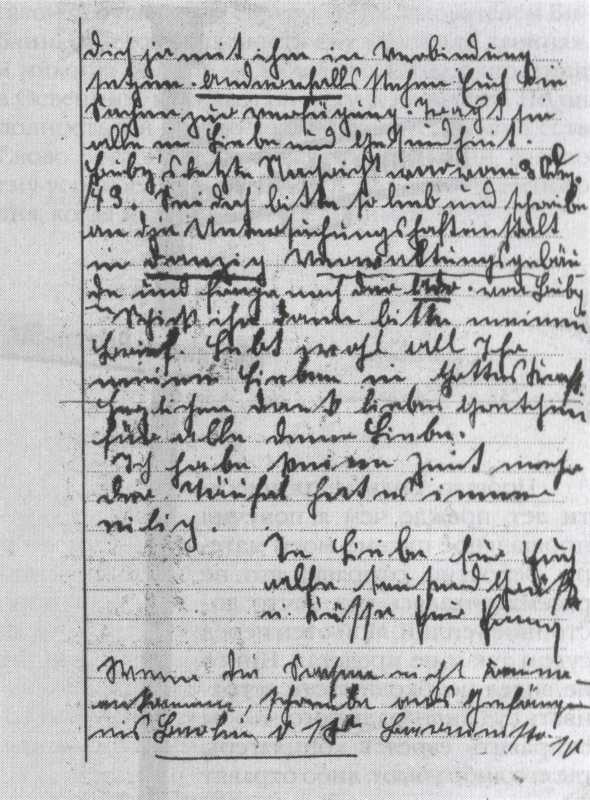
120 Смерть
приходила в понедельник
Прошло больше пятидесяти лет,
прежде чем я получил прощальное письмо моей матери. Вероятно, отправка его не
рассматривалась как нечто достойное усилий. Мой отец перед судом так и не
предстал. Никто не видел необходимости устраивать суд лишь ради того, чтобы
отправить еврея в концлагерь, где его либо убьют, либо отравят
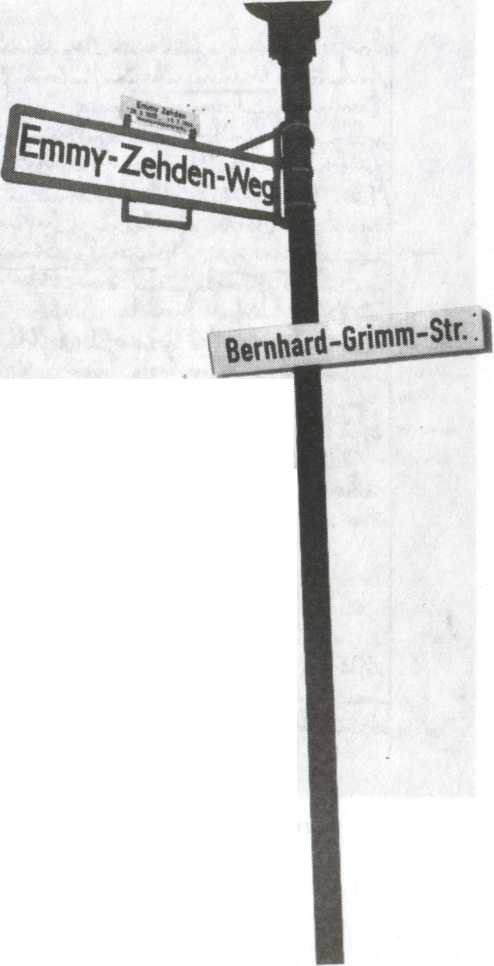
Улица Эмми Цеден неподалеку от
«Музея тюрьмы Плётцензее»
Перед
Народным судом 121
газом. А отец был и евреем, и
Исследователем Библии, отчего и опасность ему угрожала двойная. Я никогда
больше не видел его. Отца отправили в Освенцим, и живым он оттуда не вышел. Но
он полностью и твердо верил в то, что Библия есть Слово Бога. И это, вне всяких
сомнений, давало ему успокоение и надежду. Я жду того чудесного дня, когда мы
снова воссоединимся.
122
IX
Бранденбург.
Тюрьма Гёрден:
камера
смертников
Итак, прошло почти восемнадцать
месяцев. Восемнадцать месяцев, проведенных в тюрьме в ожидании приговора.
Восемнадцать месяцев одиночества — если не считать короткого пребывания в
Данциге и четырех недель работы во внешней команде. Восемнадцать месяцев без
каких-либо бесед, разговоров. Привыкнуть к этому невозможно. Людям необходимы
люди.
Когда я покидал зал суда,
меня заковали в наручники — два металлических кольца вокруг запястий,
соединенные цепочкой или полоской металла длиной сантиметров в десять. Диаметр
колец можно менять. Если тюремщик пребывает в человеколюбивом
настро-
Бранденбург.
Тюрьма Гёрден: камера смертников 123
ении, он слегка увеличивает диаметр,
отчего кольца становятся чуть более подвижными. Если
нет, обычно отделывается слонами: «Я из-за тебя неприятности наживать не
собираюсь». Из-за наручников камера кажется мне еще более тесной.
Я заболел — сначала у меня
распухли миндалины, потом начался фурункулез. В тюрьме любого режима
заболевшего заключенного обычно переводят в лазарет. Однако в 1944-м ни у кого
до таких мелочей руки не доходили. Да и заключенный-то этот был смертником. И
меня оставили в камере, чем я был втайне доволен. Я с трудом мог глотать любую
еду, а уж куски хлеба, которые я получал по утрам и по вечерам, причиняли мне
очень сильную боль. Но съедать хлеб было необходимо, никто не мог позволить
себе оставлять его. Жидкий супчик, который приносили в полдень, размягчал хлеб,
и глотать было вполне терпимо. Я даже обрадовался, когда нарывы на миндалинах,
наконец, лопнули и гной вытек наружу.
В фурункулезе тоже хорошего было мало. Каждое утро грубая ткань тюремной одежды
оказывалась словно приклеенной к моей шее и коленкам,
а отдирать ее от кожи скованными руками было и трудно, и больно.
Мне снова довелось пережить
воздушный налет. Он оказался почти таким же, как тот, в Моабите. Но на сей раз ощущения оставил иные, поскольку я был скован. Можно
подумать —
124 Смерть
приходила в понедельник
какая разница, скован ты или не скован, из
камеры-то все равно деться некуда. Разницу составляло удвоенное ощущение
бессилия и беспомощности.
Ну что же, шум стих,
воздушный налет, похоже, закончился. Я мог расслабиться. Пережит еще один
налет. Хотя чему радоваться — непонятно, ведь смерть моя все равно дело
решенное.
И вот однажды наступило
обычное утро, мне принесли обычный завтрак — ломоть хлеба с маргарином и
мармеладом, суррогатный кофе... А спустя какое-то время явился надзиратель,
сообщивший, что меня повезут в другую тюрьму.
Куда же? Плётцензее — вот
она, за углом, до нее и пешком можно добраться. Однако во дворе меня ждала «Зеленая Минна». Значит, снова в путь и, похоже, в последний. Как оказалось, «Зеленая
Минна» доставила меня в тюрьму бранденбургского города Гёрден. Данное
учреждение именовало себя «исправительным», а также просто «тюрьмой», но было
оборудовано всем необходимым для совершения казней. Я находился всего в 30
шагах от виселиц.
Первым делом меня отвели на
склад одежды, где я получил новую экипировку. Работавший там заключенный выдал
мне черную тюремную куртку и черные же, с широкой желтой полосой, штаны. Такова
была моя новая «униформа». Последовали кое-какие
Бранденбург.
Тюрьма Гёрден: камера смертников 125
формальности, а затем меня отвели в одну
из камер смертников. В этом крыле тюрьмы содержались заключенные, приговоренные
к смерти. Я шел за надзирателем, пока он не остановился у двери одной из камер.
Дверь открылась, я шагнул в камеру и от удивления сразу отступил назад. В
камере уже сидели двое заключенных. Выходит, я стану номером третьим? Сколько
же людей содержится в этом крыле? Бесценные человеческие жизни без церемоний
сочтены не имеющим ценности режимом, который сам ничего не стоит.
Дверь закрылась за моей
спиной, и, я полагал, что нам следует представиться друг другу. Но нет, это
оказалось невозможным! Мы не понимали языка друг друга
и, стало быть, общаться не могли. Один из заключенных был поляком, другой
французом, немецкого оба не знали, как и я не знал ни польского, ни
французского. Я понял, что это подлый умышленный финт. Сколько-нибудь близкие
отношения между заключенными не допускались. Даже язык жестов был нам
недоступен — в наручниках не пожестикулируешь. Как бесчестно!
Камера. Да, следует описать
камеру. Одиночка площадью примерно в 6 квадратных метров — 4,47 м в длину и 1,4
м в ширину. Мы старались, как могли, поделить ее по справедливости. «Меблировка» состояла из складного столика, откидной койки, стула,
ну и, разумеется, параши, распространявшей запах,
126 Смерть
приходила в понедельник
какого и следует ожидать от бадьи,
используемой сразу тремя людьми; имелись также миски, ложки и орудия для поддержания
чистоты. Как мы спали? Не помню. Вероятно, в камере было два матраса, которые в
дневное время сворачивались и приставлялись к стене. Во всяком случае, никаких
раздоров из-за этого я не припоминаю — мы были слишком измотаны и апатичны.
Итак, нас объединила камера
смертников. Выйти из нее не представлялось возможным. Обычных прогулок на
свежем воздухе по тюремному двору для нас не существовало. Если кто-то покидал
такую камеру, все знали, что его ожидает прогулка лишь в
несколько шагов — до помещения, занавешенного большой
черной шторой, скрывавшей гильотину. Заключенному полагалось стоять перед
занавесом в одних штанах — единственной части одежды, в какой позволялось
остаться, — и когда прозвучит его имя, произнести лишь одно слово,
подтверждающее его личность: «Да».
После этого зачитывались обоснования вынесенного ему приговора: «Вы приговорены
Народным судом за противодействие военным усилиям...»
— или какие бы то ни было другие. А затем — ужасные
последние слова: «Палач, исполните ваши обязанности». Наконец черный занавес
отодвигался, и приговоренный оказывался лицом к лицу с орудием убийства. Палач
с подручными хватали его, и все быстро заканчивалось.
Бранденбург.
Тюрьма Гёрден: камера смертников 127
Следом в протокол заносилось
что-то вроде: «Казнь заняла 8 секунд — от появления приговоренного до ее
завершения».
Я падаю духом, когда моя
память обращается к тем событиям. Когда, например, я думаю о деревянных гробах
— преднамеренно укороченных, поскольку от тела отделялась существенная часть —
часть, для которой нашлось помещение в другом месте. Или о враче, приезжавшем
из бранденбургской больницы, чтобы собрать кровь несчастного узника, которую
затем использовали для переливаний. Или о счете, высылавшемся родственникам казненного: «Плата за приведение смертного приговора в
исполнение, установленная параграфами 49 и 52 закона о судебных издержках,
составляет 300 рейхсмарок». Или о многом ином, чего мы в то время не могли
знать. Мы знали лишь свою камеру смертников.
Затем, где-то в середине
апреля, нас вдруг уведомили, что камера больше не будет запираться на ключ.
Только на засов. И наручники с нас сняли. Все разновидности неосуществимых
мыслей и идей посетили нас. Имеет ли это какое-либо отношение к ходу войны?
Может быть, русские или американцы подошли слишком близко? Или случились некие
политические перемены? Уж не отменены ли наши смертные приговоры? Сидя в
камере, мы никакого представления о происходившем
снаружи не имели, вот и строили всякие домыслы.
128 Смерть
приходила в понедельник
Смерть всегда приходила в
понедельник. Палач появлялся в 10 утра и начинал с противоположного нашему ряда камер. Я представлял, как выглядит смерть. Я
видел ее в образе армейского офицера в зеленом кителе с серебряными пуговицами,
в черных брюках. Смерть носила фуражку, она ходила в кожаных сапогах, и стук их
каблуков по каменному полу эхом разносился по тюрьме. В руках она сжимала
связку ключей и листок бумаги с именами тех, кого ей предстоит увести сегодня с
этого света.
Вот она идет по тюремному
коридору. Все притихают, потому что каждый хочет слышать, какую дверь она
откроет, сколько заберет людей. Покончив с противоположным
рядом камер, смерть переходит к нашему. Остановится ли она у нашей двери или
пройдет мимо? Она проходит мимо, и нам достается еще одна неделя жизни. Но
тишина продолжает окружать камеры, словно каждый из заключенных думает о своем
переставшем существовать собрате. Потом оставшиеся в живых начинают выкликать
известные им имена узников. Если ответа не слышно, выкликавший понимает, что
его друга больше нет. Сколько дверей отперла смерть на этот раз? Точно сказать
невозможно. Две, три, четыре?
Однажды смерть словно бы
потеряла счет дням и появилась в середине недели. Меня это испугало. Никто
такого не ожидал. Она появилась с множеством подручных, и в
ко-
Бранденбург.
Тюрьма Гёрден: камера смертников 129
ридоре поднялся страшный шум. Казалось,
открываются все двери подряд и всех заключенных выводят из камер. Я слышал шаги
— шарканье арестантов, твердую поступь надзирателей. Вместе с моими
сокамерниками я стоял у двери, вслушиваясь.
И вот смерть перешла на нашу
сторону, шаги ее звучали все ближе, ближе и внезапно остановились у нашей
двери. Мы отскочили к окну, поскольку стоять близко к двери запрещалось. Смерть
стояла в дверном проеме с белым листком в руках. Она открыла рот и прочитала —
имя француза, не без труда выговорив его. Француз вышел из камеры, снял очки и
последовал по коридору за помощником палача. Смерть снова заглянула в листок,
открыла рот и прочитала — имя поляка. Ушел и он. Затем смерть взглянула на
меня. О чем я думал в тот миг? Я не знаю. Память моя сохранила только
закрывавшуюся дверь. Смерть на этот раз пропустила мое имя и продолжила свой
обход.
Этот день. О, как бы я желал
забыть его, но не могу. 20 апреля 1945-го года. В тот день казнили 28 человек.
За четыре месяца, проведенные мной в бранденбургской тюрьме, не было другого
дня, в который совершилось бы так много казней. И это был не понедельник,
другой день недели. День рождения Адольфа Гитлера. Он ли послужил причиной
стольких убийств? Несомненно.
После того как увели
последнего приговоренного, наступила тишина — жуткая, сверхъ-
130 Смерть
приходила в понедельник
естественная тишина. Уж не остался ли я в
нашем крыле один? Ни звука, только пугающее, цепенящее безмолвие. Настал
полдень, но никакой еды мне не принесли. Затем наступил вечер. И я услышал
приближающиеся к моей камере шаги. Я ожил. В чем дело? Может быть, обо мне
просто забыли, а теперь спохватились, вспомнили, что и я тоже должен умереть
сегодня? Дверь распахнулась, за ней стоял молодой тюремный офицер, всегда
относившийся к нам очень доброжелательно. Полагаю, в действующей армии он
больше служить по какой-то причине не мог, и его перевели с фронта сюда.
«Шмидт, — сказал он. — Вы ведь Bibelforscher. Хотите, я переведу в вашу камеру двух ваших друзей?».
Ответа он дожидаться не стал
и потому не увидел выступивших на моих глазах слез радости. Да и какой ответ
мог я ему дать так быстро? Вскоре он вернулся с Францем Фрицше и Хейнцем
Фроммом. А еще одного нашего товарища, Пауля Фладера, перевели в соседнюю
камеру.
Стало ли в моей камере
светлее? Проник ли в нее луч солнца? Какое облегчение я испытал
после стольких печальных, трагических часов! Мы подбодряли друг друга и вполне
прочувствовали смысл слов из Евангелия от Матфея, глава 18, стих 20: «ибо,
где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
Это слова Иисуса, и до чего
же они верны! Не то что бы мы в нашем измученном
состоя-
Бранденбург.
Тюрьма Гёрден: камера смертников 131
нии были способны вести глубокие духовные
беседы, но мы могли, по крайней мере, давать утешение друг другу, выказывать
понимание и доверие. А это бесконечно важно. Мы понимали, какое огромное
значение имеет братство; понимали, что человек, когда он один, может совершать
ошибки и даже не замечать их. Возможно, поэтому апостол Павел в Послании
евреям, глава 10, стих 25, и сказал: «Не будем оставлять собрания
своего...». Нас было четверо, а это уже малое собрание. С нашим братом
Паулем Фландером мы могли перестукиваться или переговариваться через окна,
поскольку тюремные надзиратели следить за этим перестали.
Тот молодой офицер очень
помог нам. Видимо, не вся человечность сгинула в газовых камерах Освенцима.
Заступая на дежурство, он коротко рассказывал нам о ходе войны. Он говорил, что
русские идут впереди всех, что они взяли Берлин в кольцо и продвигаются к
Эльбе. И что скоро они могут оказаться в Бранденбурге. Этот молодой человек
подбадривал нас, и наши надежды возрождались.
Дни тянулись медленно. Но все
же не так медленно и монотонно, как в предыдущие месяцы, потому что наше
положение переменилось. Мы могли разговаривать, воодушевлять друг друга. И
когда снова наступил понедельник, очередной страшный понедельник, мы спрашивали
— каждый себя и друг друга, — что он нам принесет. Но понедельник миновал, а
смерть не пришла — и с тех пор больше
132 Смерть
приходила в понедельник
не приходила. Пища, которой нас кормили,
была ужасна, но мы ее все-таки ели. Мы не обращали на это внимания. Мы знали,
что находимся под хранящей нас рукой Иеговы Бога и были почти уверены, что он
нас спасет.
А затем наступил день,
который изменил все. 27 апреля 1945-го года. Мы снова услышали шум, какую-то
сумятицу, но то был другой шум, все было другим. В коридор набилось множество
людей, внезапно дверь нашей камеры распахнулась, и кто-то крикнул нам: «Наружу!
Выходите! Быстро!». Недоумевающие и испуганные, мы заколебались, нам
потребовалось некоторое время, чтобы понять хоть что-то и сдвинуться с места.
Коридор был переполнен людьми, все они бежали к выходу из тюремного здания. Мы
тоже побежали с ними. Пересекли тюремный двор, выскочили в открытые ворота.
Продолжая следовать за толпой, мы совершенно неожиданно оказались на площади
перед тюрьмой. Снова множество людей — одни в тюремной одежде, другие в гражданской. Толпа увлекла нас с собой, оторвав друг от
друга. Повсюду были спешащие куда-то русские солдаты, и ни одного тюремного
надзирателя. Они, судя по всему, разбежались.
У ворот стоял русский танк,
но я видел лишь одно — мокрую траву. Я догадался — только что прошел дождь, и
на траве сверкали под неярким апрельским солнцем жемчужные капли. Этот образ
навсегда запечатлелся в моем сознании и сердце. Я пытался постичь,
Бранденбург.
Тюрьма Гёрден: камера смертников 133
что происходит, но ничего не соображал и
не был способен что-то предпринять. Я, наконец, понял, как близок я был к тому,
чтобы расстаться со своей молодой жизнью. Жизнью, отданной в руки Бога задолго
до того, как сама Смерть постучала в этот понедельник в дверь камеры, чтобы
увести меня за собой. Теперь же мне предлагали жить! Но постичь это было свыше
моих сил. Я повернулся и пошел назад, в свою камеру.
Я вошел в нее и сел в свой
угол. Но просидел, по-видимому, недолго. Вскоре в двери камеры появился русский
солдат, он сердито махал руками и автоматом, показывая, что я должен очистить
помещение. Я снова прошел по коридору, через двор, через тюремные ворота. Снова
увидел сияющую, залитую солнечным светом траву. И заплакал. Не видя ни людей,
ни танка, я побрел по траве навстречу новой жизни, которую только что получил.
Моей второй жизни.
134
X
Моя вторая
жизнь
День этот завершился так же
суматошно, как и начался. Мне каким-то образом удалось отыскать моих товарищей
— Франца, Хейнца и Пауля. Нам приказали как можно быстрее покинуть окрестности
тюрьмы, потому что ее могли начать бомбить немецкие самолеты или обстреливать
артиллерия. Так что никаких документов об освобождении я получить не успел.
Мы стояли там до тех пор,
пока один из нас — скорее всего, Франц Фритше — не выдвинул предложение
добраться до Берлина. Разумеется, никакого транспорта мы найти не могли — идти
надо было пешком. Но сначала мы направились в Бранденбург. Я и сейчас словно
вижу длинные прямые улицы с домами по обеим сторонам. Неожиданно до нас донесся
крик: «Воздух!». Все бывшие на ули-
Моя
вторая жизнь 135
це люди бросились в поисках укрытия к
ближайшим домам. К сожалению, объявленная тревога разлучила нас с Хейнцем
Фроммом и Паулем Фладером, но мы с Францем остались вместе.
Мы заскочили в какой-то подвал.
И когда начали оглядываться вокруг, увидели совершенно невообразимые сокровища
— еду, да такую, о какой мы и мечтать позабыли! Фруктовые консервы, свисающие с
потолка колбасы, ветчина и бекон. Я совсем уж было собрался наброситься на них,
но тут Франц (оказавшийся умнее меня) предостерегающе произнес: «Не трогай
ничего. Это опасно». Конечно, он был прав. Но мне так хотелось попробовать,
хотя бы кусочек. Я и съел крошечный кусочек мяса. Но даже это оказалось для
моего желудка чрезмерным, и, хотя с последствиями я справился, приятными их
назвать я не могу.
Толпа исчезла, разбежалась.
Налет так и не состоялся, вероятно, тревога была ложной. В конце концов мы вылезли из подвального укрытия на улицу. Все было
тихо. Ни единой души вокруг. Куда подевались Хейнц и Пауль? Мы искали их,
искали, но так и не нашли.
И мы отправились в Бранденбург вдвоем. Дорога привела нас к заброшенной ферме, где мы
решили заночевать. Ночь выдалась не очень спокойная, потому что на ферму то и
дело наведывались отряды русских солдат с проверками. И снова выяснилось, что
Франц — человек очень предусмотрительный. Он настоял на том, чтобы мы остались
в тюремной робе, поскольку она была лучшим «удостоверением личности», какое мы могли иметь при себе. Стоило нам показать эту
одежду с ее «знаками отличия» — желтыми поло-
136 Смерть
приходила в понедельник
сами — солдатам, и больше они никаких
вопросов не задавали. Они предлагали нам еду, даже сигареты — от них мы,
правда, отказывались. Так наши пищевые припасы пополнились, и мы рассчитывали,
что их хватит до самого Берлина.
В Рейникендорфе у Франца был
маленький домик. Он-то и стал нашей целью. Путь оказался долгим. Вокруг Берлина
еще шли бои, но Рейникендорф уже перешел в руки русских. Окольными путями мы в конце концов добрались до домика, оказавшегося
невредимым, и нашли в нем приют. Где-то неподалеку вела огонь тяжелая
артиллерия, сыпались осколки снарядов. Но мы валились с ног от усталости и
благодаря нашей тюремной «униформе» уснули спокойно и мирно на лоне нашей
свободы.
Испытания, выпавшие на мою
долю, были тяжелыми, очень тяжелыми. Четыре года подполья, четыре года в
положении человека, на которого ведется охота, которого преследуют, четыре года
постоянного страха ареста. Затем почти два года за решеткой, два года не жизни
— существования. И все это в том возрасте, когда человек обычно готовит себя к
будущему. Родителей моих убили, дома у меня не было. Школьное образование оборвалось в середине седьмого класса, возможности получить
какое-либо ремесло я был лишен. Я не имел никакого представления о том,
что мне делать с собой и с моей жизнью.
Время шло. Для того чтобы
по-настоящему понять, каково так жить, нужно испытать это на собственной шкуре.
Тот, кто не испытал ничего подобного, даже и вообразить не может, что собой
представляла моя жизнь. В конце концов меня
Моя
вторая жизнь 137
отыскал отец Эрми — не знаю, как. Жена его
находилась в Лукенвальде. До самого последнего времени она сидела в тюрьме
Вальдхайма. Затем они нашли себе дом в Потсдаме, и отец Эрми стал там
председательствующим служителем местного христианского собрания. А в конце
января 1947-го года наконец-то вернулась из Дании в Германию и Эрми. Мы с ней
встретились в Любеке. В феврале 1947-го. Прошло почти четыре года, как мы не
видели друг друга, да и увидеть не надеялись, поскольку меня приговорили к
смерти. А до того времени мы были знакомы всего-навсего восемь месяцев и
встречались лишь урывками, с интервалами в четыре-пять недель, да и встречи-то
наши длились не более нескольких часов в напряженные
дни, заполненные другими заботами.
И вот мы снова встретились с
ней лицом к лицу. Пути наши разошлись, и мы остро чувствовали это. Все было
совершенно не так, как в день нашей разлуки. О да, под пеплом еще тлел огонь,
но его надо было заново разжечь. А это было делом нелегким. Мы изменились,
стали другими. Между нами выросла стена, и, оказалось, разрушить ее нелегко.
Нет, мы не бросились друг другу в объятья, не облились слезами радости. Мы
приближались друг к другу неуверенно, осторожно и робко, как совершенно
незнакомые люди.
Внешне Эрми почти не
изменилась — несмотря на все пережитое, она осталась такой же восхитительной,
какой я ее помнил. Но насколько пережитое изменило ее внутренне? Что сделали с
ней годы, которые она провела в тюрьме, в концлагере? В каждодневной борьбе за
пищу, за выживание? А потом марш смерти из Штутгофа на полу-
138 Смерть
приходила в понедельник
остров Гела и дни, проведенные на речной
барже, которую мотало по Балтийскому морю, пока она не добралась до берегов
Дании. Там Эрми получила свободу и встретила, собратьев по вере. Это положило
начало нашей дружбы с датчанами, с которыми мы связаны и по сей день. Потом она
добровольно отправилась в датский лагерь беженцев, чтобы утешать своих
лишившихся домов соотечественников словом Бога, — ну и потому, что это давало
ей шанс поскорее вернуться в Германию. Я, в противоположность ей, находился в
руках властей, одиноко сидел в камере, где мне не с кем было разговаривать и не
с кем бороться — да и не за что. Разница между тюрьмой и концлагерем была
огромной.
Итак, мы сближались с нею
очень неуверенно — посредством долгих разговоров, вести которые нам до
некоторой степени помогало безлюдие Виехенгебирге. Мы бродили и разговаривали,
часто даже останавливались, чтобы обсудить какой-нибудь волнующий вопрос. Мы стремились
понять друг друга, и это помогло нам снова нащупать некую общую почву. И давнее
пламя разгорелось, мы снова прониклись настоящей любовью друг к другу. Мы
поженились довольно скоро, в марте 1947-го. Но ведь и времена были сумасшедшие.
Однако и после женитьбы немало времени ушло на то, чтобы соединить наши судьбы,
наше раздельное существование, в нечто единое.
Тем не менее
все понемногу вставало на свои места, мы начали вести нормальную человеческую
жизнь. Я, хоть и с запозданием, но обзавелся профессией, да и жене моей
приходилось очень много трудиться. В 1949-м у нас родилась дочь,
Моя
вторая жизнь 139
а теперь мы женаты вот уже 55 лет. 55
счастливых лет, в течение которых мы верно шли рука об
руку, хоть это, могу сказать с определенностью, и не всегда было легко. Каждый
человек несет груз своего прошлого. И, как я понимаю, наша счастливая
совместная жизнь — это также и вознаграждение, полученное нами от Иеговы Бога
за то, что в те времена мы приложили максимум усилий, чтобы остаться верными
ему.
Свою биологическую мать я так
по-настоящему и не узнал. Тех нескольких месяцев, которые я провел мальчишкой в
доме моих биологических родителей, было для этого, разумеется, недостаточно. В
памяти сохранился образ тощей, сухопарой и очень энергичной женщины, не
особенно высокой и неизменно одетой в черное. Надо
полагать, она обладала сильной волей, «вестфальским упорством», и знала, как им
пользоваться. Она была очень самоуверенной — не стесняясь в выражениях,
объясняла мне и моей жене, как ей не нравится то, что мы не избрали для себя
научную карьеру, а стали Свидетелями Иеговы, чего она и вовсе понять не могла.
После войны и нашей свадьбы мы время от времени встречались с нею, но лишь на
очень недолгое время.
Мой биологический отец был по
природе своей человеком куда более тихим. Он всегда стремился к согласию, и,
думаю, ему нередко приходилось туго. Моего брата Бодо, родившегося и 1922-м, я
так никогда и не узнал. Его убили в один из первых дней войны. Мать любила его
больше остальных детей. Моя родившаяся в 1926-м сестра Эдит была, как говорили,
мечтательницей. Она изучала германистику и еще что-то и стала школьной
140 Смерть
приходила в понедельник
учительницей. Муж ее умер относительно
рано, а сама она скончалась в 2002-м году. Не думаю, что в ее жизни было много
радостей — за исключением, разве что, экзаменов, которые успешно сдавали ее
ученики. Вероятно, отсутствие радостей объяснялось тем, что она унаследовала от
матери бережливость, привычку экономить на всем (из чего сейчас извлекает
пользу ее сын). Мы с ней почти не общались, да и встречаться начали лишь в
последние годы, но смерть ее подействовала на меня очень сильно. Мой брат
Вольфганг родился, насколько помню, в 1928-м году. Я видел его лишь однажды, да
и то через окно клиники легочных больных в Берлин-Бухе.
Остался еще мой брат Ульрих,
самый младший, родившийся в 1930-м. Именно ему мы обязаны воссоединением, он
всегда старался поддерживать родственную связь между нами — троими детьми,
оставшимися в живых. Думаю, он стал воплощением того, о чем мечтала моя мать.
Он изучал право, потом переключился на историю искусств, защитил докторскую
диссертацию и сделал хорошую карьеру. За которую, как
это нередко случается, заплатил здоровьем. У него довольно рано случился
инфаркт, а затем последовали и другие болезни. Брак его
распался, вообще проблем у него более чем хватало. Как-то, в минуту своих
запоздавших раздумий, он поделился со мной: «Если вдуматься, ты, по-моему,
выбрал наилучший путь». Мы не стали обсуждать эту тему, но я потом много
размышлял над его словами. Интересно, что он имел в виду?
Возможно, Ульрих подразумевал
достаток — однажды он сказал мне, что начал зарабатывать
Моя
вторая жизнь 141
деньги очень поздно. Но ведь и я сумел
получить профессию только в 32 года, а мы с Эрми к тому времени были уже
женаты, и денег нам вечно не хватало. Не исключено, впрочем, что он имел в виду
наш брак, оставшийся крепким после стольких лет. Или Ульрих подразумевал нашу
веру, которую он никогда не хотел ни обсуждать, ни даже упоминать? Возможно, в
глубине души он уважал ее, понимая, что следовать ей очень нелегко. А может, он
думал о последствиях, к которым моя вера привела меня в юности, во времена,
когда сам он был еще ребенком.
Когда сейчас, в мои 82 года, через 60 лет после описанных событий, меня
спрашивают, почему я действовал так, а не иначе, я могу дать только один ответ:
«Вера заставляла меня делать то, что я делал. Я хотел жить по моей вере». Один
из моих братьев по вере как-то сказал: «Никто из нас не стремился стать
героем». И я с ним согласен. Мы желали лишь одного — прославлять имя нашего
Бога верой и терпением. Ни за что на свете мы не отказались бы от веры в Иисуса
Христа, Бога Иегову и в его Слово — Библию. Сейчас многие сомневаются в самом
существовании Бога, но для меня всегда остается истинным то, что сказано в
Послании к Римлянам, глава 1, стихи 20-22: «Ибо невидимое Его, вечная сила
Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что
они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Иго, как Бога, и не
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их
сердце; называя себя мудрыми, обезумели». И я считаю, что не существует
ничего лучшего, чем эти заповеди:
142 Смерть
приходила в понедельник
1) Люби Бога.
2) Люби твоего ближнего.
3) Не убивай.
Разве этих простых принципов
не достаточно для того, чтобы пойти путем, которым шли в те времена Свидетели
Иеговы? Время от времени я спрашиваю себя, почему я вообще рассказываю о тех
временах и почему именно сейчас? Наверное, я просто должен делать это.
Должен дать мое свидетельство силы веры и надежды, которую эта вера порождает,
потому что нам выпала привилегия видеть, как Бог наделяет просящих
силой, превышающей обычную. Опираясь только на собственные силы, никто из нас
тех страданий не вынес бы. И это напоминает нам также о людях, которые отдали
жизнь за свою веру. Мы не должны забывать их, чтобы такое не повторилось.
В 50-летнюю годовщину моего
освобождения из бранденбургской тюрьмы я стоял перед монументом, установленным
в память о тех временах. Было произнесено немало речей — представителями
государства, мэром, главным раввином еврейской общины. В тот раз я впервые
увидел, как нам, Свидетелям Иеговы, оказывают официальное признание за наши
былые страдания, как чтят наших братьев, погибших за свою веру.
Я не знал тогда, что урна с
прахом моего брата по вере Антона Урана тоже заложена в этот монумент. Это был
первый подобный случай; думаю, и посегодня неизвестна большая часть людей
погибших за нашу веру. Антон Уран из земли Кёрнтен умер в 23 года потому, что
закон Бога значил для него больше, чем закон человека.
Моя
вторая жизнь 143
В январе 1988-го я стоял в
каменоломне концлагеря Маутхаузен, думая о заключенных, которые работали здесь
до полного изнеможения, пока не погибали. Потом я поднялся по длинной и крутой
лестнице, названной «Лестницей смерти». Подъем дался мне с трудом, пришлось
несколько раз останавливаться, чтобы перевести дыхание. Как же поднимались по
этим ступенькам заключенные, которые после целого дня изнурительного труда
возвращались в свои бараки, неся каждый по тяжелому камню, которые
использовались для строительства лагеря? И горе тому, кто падал на этой
лестнице. Его просто пристреливали — без малейшей жалости.
В завершение
я оказался на «главной улице» лагеря, откуда открывалась широкая
живописная панорама. Подо мной лежала долина Дуная, хотя самой реки видно не
было. Далеко на юге поблескивали под солнцем снежные вершины Альп. Здесь
содержались мои братья по вере — около 150 человек. Что они думали, что
чувствовали, стоя на этом пятачке и глядя на простирающуюся вдали свободу —
свободу, которой они не могли обладать, потому что хотели остаться верными
своему Творцу?
Немного позже я оказался в
лагере Штутгоф под Данцигом и увидел выстроенные в ряд башмаки 65 000 убитых.
Здесь содержалось 110 000 человек, из них 65 000 не вышли отсюда живыми. Не
знаю, многие ли из них были моими собратьями, но моя будущая жена находилась именно
здесь и видела своими глазами на лагерной улице всех этих людей, 65 000
человек, главным образом евреев. Здесь разлучали родственников, вырывали
144 Смерть
приходила в понедельник
детей из рук матерей. Мужья и отцы тщетно
пытались защитить их, хотя никого защитить было уже невозможно. Изголодавшиеся
дети превращались в дерущихся зверей при виде кусочка хлеба. Жена видела
женщин, которых гнали небольшими группами в душевые — так они думали, но вместо
душа их ждал смертоносный газ. И целой жизни не хватит, чтобы изгнать из
сознания эти картины.
Что скажет моя книга тем, кто
прочтет ее? Или, уж если на то пошло, кто вообще захочет читать об этом 60 лет спустя? Года два назад мы с женой, возвращаясь из Данцига,
оказались в одном автобусе с людьми, которые во время войны жили не то в
селении Штутгоф, не то поблизости. Разумеется, они приезжали сюда не для того,
чтобы увидеть концлагерь, — им просто хотелось побывать в родной деревне. Мы
разговорились, и они сказали нам, что решительно ничего не знали о
существовании рядом с их деревней концлагеря Штутгоф. Да, конечно, они видели
неподалеку какие-то деревянные бараки, видели вооруженную охрану, но
предполагали, что там содержатся те, кто отказывался работать. И мы спросили
себя: «Действительно ли они ничего не знали? Или все же не хотели знать?».
Вот потому-то и необходимо
говорить об этом, писать, вспоминать. Бороться с невежеством, быть может,
преднамеренным. Это священный долг последних оставшихся очевидцев.
145
Эпилог
Сейчас мне 82. Процесс
воссоздания прошлого для меня труден — отчасти и потому, что я не хочу о нем
вспоминать. На меня снова обрушивается поток эмоций, и я понимаю, что сумел
лишь подавить их, но так и не смог от них избавиться, что, вероятно, следовало
бы сделать. Но это и тяжело, и поздно, к тому же от многих из них, скорее
всего, уже не избавишься. Нередко мне приходилось прерывать работу над книгой,
чтобы справиться с обуревавшими меня чувствами, — я не мог и даже не хотел
продолжать ее. Меня мучил и еще один вопрос: «Зачем»? Зачем писать эту книгу и
заново совершать хождение по мукам? Что же, думаю, я должен был сделать
это — вспомнить обо всех страданиях и жестокостях, которые выпали на долю
многих невинных людей в те дни. В особенности на долю евреев, но и цыган тоже,
а также политзаключенных, вывезенных из своих стран рабочих и Свидетелей
Иеговы. Я часто думаю об Эли Визеле и люблю цитировать
его слова:
Противоположность
любви — не ненависть,
Противоположность
надежды — не отчаяние,
146 Смерть
приходила в понедельник
Противоположность
здравомыслия — не безумие и
Противоположность
памяти — не забвение.
Противоположность
всего этого — безразличие.
Безразличие — вот с чем я
стремился сразиться, ибо мы не можем допустить, чтобы все это случилось снова.
Потому-то я и считаю столь важным показать, что даже в те ужасные времена
существовали люди, обладавшие верой, сильной настолько, что они готовы были
идти за нее в тюрьмы и концлагеря. А были и те, кого за веру казнили.
Эли Визель — не Свидетель
Иеговы, он еврей. Совсем молодым Визель пережил Освенцим и Бухенвальд. Он лишился матери и сестры, а отец его умер по пути в
Бухенвальд. Эли Визель сказал однажды, что в концлагере не было Бога, и потому
он свою веру в Бога утратил. Я обрадовался, узнав, что впоследствии он обрел
свою веру снова.
Довольно часто мы с женой
спрашиваем себя за завтраком: «Как же все было на самом деле в то время?».
Теперь оно далеко в прошлом. Сколько там реальности и правды и сколько догадок
и плодов воображения? По прошествии 60 лет границы между тем и другим
стираются. Но мы должны решительно придерживаться правды. Когда связываешь
события между собой, часто случается, что образ какого-то эпизода вдруг
всплывает со дна «черного ящика» памяти. Но кажется,
что он не хранится в базе данных на жестком диске нашего «компьютера», и мы
решительно отправляем такой образ в мусорную корзину, ибо не уверены в том, что
эпизод этот и впрямь имел место. Самое грустное, что эти наши «черные ящики»
памяти прохудились, а то, что из них утекает, безвоз-
Эпилог 147
вратно утрачивается. Это причиняет мне
сильную боль.
Многие предостерегали меня от
написания этой книги. Люди тревожились за меня. Они беспокоились, что, начав
писать ее, я просто разорву себя на куски. Возможно, они были правы. Но, с
другой стороны, многие из друзей, напротив, воодушевляли меня, говоря, что я обязан
ее написать. По уже названным мною причинам. Я долгое время пребывал в
нерешительности.
И я особенно благодарен моему
другу, историку Гансу Гессе. Без него я бы не написал
этой книги. Он раз за разом повторял, что я обязан сделать это, и в конце концов рукопись, давно мной похороненная,
воскресла. Без каких-либо жалоб и критики он трудолюбиво устранил из нее все
несущественные детали, остерегаясь, однако же, править мой рассказ о самом
себе, мои слова и мою манеру выражать свои мысли. Я хочу поблагодарить и мою
жену, окружавшую меня заботой, ободрявшую, когда время от времени у меня,
подавленного воспоминаниями, опускались руки.
Изд: Х. Шмидт. «Смерть приходила в понедельник», М.,
«Особая книга», 2009.
OCR: Адаменко Виталий (adamenko77@gmail.com)
Date: 2-4 апреля 2010